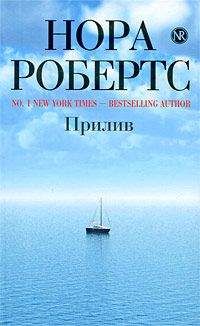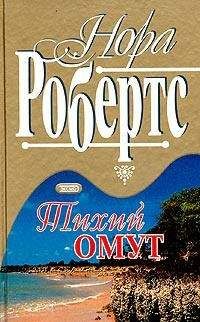Петр Катериничев - Беглый огонь (Дрон - 3)
Глава 48
Лес казался бесконечным. Я брел по нему уже который час, ориентируясь по солнышку. Береженого Бог бережет: мне нужно было уйти как можно дальше от мест, где я нарушил все законы и статьи УК, какие только возможно. Мне нужно было где-то отсидеться. Еще лучше - отлежаться. Хотя бы затем, чтобы подумать, что происходит и что мне должно делать. Такое место я знаю, и не одно. Во-первых, Шпицберген. Во-вторых, Каймановы острова. Но ни там, ни там меня, к сожалению, никто не ждет. Как и на всей круглой земле. Прямо как в песне: "Когда я пришел на эту землю - никто меня не ожидал". Не знаю, сколько я прошел по бездорожью. Лес обступал кругом, лаская красками осени. Небо заволокли тучи и пошел мелкий противный дождь. У меня заломило виски, потом и весь затылок; кое-как нагреб груду опавших листьев, прилег. И провалился в тяжелый удушливый сон. Проснулся от холода. Вечерело. От нудного моросящего дождя ватник отсырел; сыростью, казалось, пропиталось все вокруг. Попытался привстать, но меня мотнуло в сторону: видимо, температура разыгралась нешуточная. Голова кружилась, во рту было сухо, как в пустыне, губы спеклись, дыхание стало прерывистым и хриплым, и сердце притом колотилось как бешеное, глаза застилал липкий ознобный пот. Я решил идти. То, что это было плохое решение, я понял скоро, но упорствовал в своих заблуждениях. Пока не запнулся о какой-то корень и не слетел по какому-то косогору вниз, царапая руки и лицо о кусты. Внизу замер. Тихонько переливался невидимый ручеек. Кое-как горстью натаскав воду в рот, напился; потом - собрался в комочек, словно одичавший пес, стараясь согреться: бесполезно. Дрожь сотрясала тело, и я снова отлетел в беспамятство сна, нудного и усталого. Мне казалось, что я бродил где-то в ночи, в сыром промозглом холоде, среди сухих остовов обгорелых деревьев и брошенных домов; я пытался заходить то в один дом, то в другой, в надежде найти тепло и ночлег, но меня встречал только писк потревоженных нетопырей, хлопанье незапертых ставень, запах нежити и неустройства. Я пытался выбраться из этой неприветливой, оставленной людьми и живностью деревеньки, но не мог: тропинка петляла, я брел по ней сквозь белесую пелену тумана, пронизанного лунным призрачным светом, и снова и снова утыкался все в те же строения или не в те же, но похожие так, что и не отличить... Где-то на верандах стыли в затянутых патиной старинных вазах засохшие шары осенних цветов, не оставив по себе запаха - один образ бывшей здесь когда-то жизни и живого тепла, исчезнувшего навсегда. Я знал, что попал туда, что в народе называют "гиблое место", что пропаду здесь, если не выберусь; усталость клонила к земле, и я бы упал на нее и уснул, если бы не затхлый могильный холод, что царил здесь везде, чья печать лежала и на строениях, и на предметах, студила дыхание, покрывала липким потом продрогшую спину. В отрешенном и обреченном бессилии я пытался бежать куда-то, задыхаясь мертвенным холодом, едва переставляя ватные, будто налитые тяжкой ртутью ноги, падал, грыз черные корневища горелых деревьев, бился головой о стылую и неживую, будто гуттаперчевую, землю и мне хотелось выть, выть от тоски и безнадеги. Я заставлял себя подниматься и идти снова, и снова оказывался в той самой деревне, полной пустой нежити, зияющей в жижеве влажного лунного света черными проемами оконных глазниц. Я шел, путаясь в серебряно-седой траве, но шаги мои были беззвучны. Я устал. Пытался вспомнить слова хоть одной молитвы, и не мог: губы оставались немыми, сердце словно замерло в плену холода и дикого, беззвучного страха... Но вот - один горячий толчок, другой... С каждым-ударом перепуганного, но оживающего сердца зазвучало покоем: "Отче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет Воля Твоя яко на небеси и на земли..." И тут я разглядел криницу. Махонький ручеек казался единственным живым существом в этом горелом лесу, он играл и переливался влагой, как потоками теплого света... Я подошел и опустил лицо в ключевое оконце... ...Холод ожег, заставил отпрянуть. Я хлебнул-таки воды, и теперь кашлял, озираясь, пытаясь разглядеть, различить в сумраке окружающего утра хоть что-то... Ну да, я лежал почти на дне того самого, поросшего по краям жухлым папоротником оврага; голова по-прежнему была мутной и больной, дыхание - хриплым; но вместо щемящего холода вокруг - живой, подрагивающий ветками лес... Кое-как я встал, набрал сухих щепочек, надрал коры, вынул из одного кармана пакет - там лежал кус сала, несколько кусков сахара, чай и немного хлеба; из другого извлек кружку и нож, зажигалку. Набрал воды, запалил крохотный костерок, мигом вскипятил воду, забросил туда чай и сахар... С каждым глотком вязкого кипятка ночной стылый холод уходил все дальше и дальше. Я выкурил отсыревшую до полной безвкусности сигарету, сориентировался и побрел дальше. По моим прикидкам, я был уже в другом районе; теперь мне нужно было выйти на дорогу и подъехать на любой попутке хоть до какого-то железнодорожного узла. Возможно, мое решение было снова плохим, продиктованным болезненным состоянием. Но другого у меня не было. Я собирался выполнять это. На "железке" забраться в любой товарняк, докандыбать как-то до столицы, а там - по обстоятельствам. Кое-как отогревшись, снова побрел лесом, превозмогая поминутно возникавшую слабость. Это только в книжках герои-диверсанты - супера с железным здоровьем, нервами-канатами, горячим сердцем и холодными ушами; в кармане - пистоль-самопал, копье-самотык и ручка-самописка, напичканная по самую головку ядом кураре. А у меня тягомотно болит голова, достает острой иголочной болью сердце, ноют побитые зубы да еще и вдобавок застуженные этой ночью старые раны: плечо и колено. Хорошо хоть, золотухи нет. Я даже не знаю, что это такое. И слава Богу. Постепенно я разогрелся, вошел в ритм и, изредка сверяясь по редким просветам в череде облаков, шел и шел. Опять же, не в Сибири живем, и если брести прямопехом хоть в какую сторону, на большак выберешься. Ежели леший не закружит. Дорогу я учуял издали по просветам в деревцах. Вышел на взгорок, разглядел: вьется между невеликими лесными холмиками, то показываясь, то пропадая. Лепота. Благолепие. Почти счастье. Только выйдя на твердую грунтовку, я почувствовал, насколько устал. Теперь Оставалось ждать. То, что мощного автомобильного движения в шесть полос или, как выражаются американцы, "heavy traffic", в расейской глубинке не наблюдается, я знал и ранее. Но полчаса ожидания, когда разгоряченный движением и повышенной температурой органон начал подрагивать даже не крупной дрожью, а крупной рысью, меня озадачили. Словно я оказался на какой-то заброшенно-позабытой трассе времен ГУЛАГа. И сейчас ведущей в никуда. Сплюнув от очередных идиотских мыслей, выдернул из пятнистой душегрейки кусок сравнительно сухой ваты, скрутил жгутом, набрал водицы из лужицы (козленочком можно стать только от сырой), вскипятил на фитильке, засыпал в кружку остатки чая и сахара, вынул пригретый во внутреннем кармане мерзавчик коньячку, украденный из Игнатьичева шкапчика, влил половину в глотку, половину в чаек и пристроился кайфовать на каком-то бревнышке. Единственное, что мешало полному счастью, - так это мелкий нудный просев дождичка да чугунная голова на деревянной шее. Две последние вещи мои собственные, я с ними един и неделим, как Россия с Шикотаном, а потому сие неудобство собирался терпеть и дальше. Если температурящее тело и не согрелось полностью, то озябшая душа после мерзавчика "конинки" явно отмякла: я откровенно загрустил, взирая на убогие, но родные дали и веси. Если так пойдет дальше, то боевой настрой и все прочее вскоре канут в Лету, а сам я сделаюсь почтальоном на дальней станции, буду разносить редкие пенсии, попивать синий свекольный самогон, тягуче размышлять о бренном и вечном, копошиться по хозяйству, из родных и близких иметь мохнатого и ворчливого пса размером с теленка и в конце концов помру тихим алкоголиком на мелком пенсионе. Это - славный финал большинства бойцов невидимого фронта, выведенных из нелегальных резидентур, но ни в фильмах, ни в книжках писать об этом не принято. Есть и другой финал, более удачный: автомобильная катастрофа или сердечный приступ. Нет, не все так фатально, бывают генеральские апофеозы по завершении и такой карьеры: это когда, лязгая хорошими протезами, можно на форуме пообщаться с коллегами по профессии с той стороны, пошамкать-погундеть о наболевшем, выпить чуток, прощупывая противника на предмет возможной вербовки (привычка - вторая натура, становящаяся с годами первой), и - разъехаться по тихим, оберегаемым особнякам, где хорошо вышколенная прислуга станет бдительно следить за развитием вашего старческого маразма и вовремя пресекать любые попытки написания мемуаров. Таковы реалии, о которых не пишут в прессе. Такова жизнь. Первое транспортное средство, нарушившее мое тоскливое уединение, оказалось лошадью. Естественно, с телегой на резиновом ходу и вполне упитанным розовощеким хлопцем на козлах. Парниша был одет в изношенную куртку, ватные штаны; на круглой голове чудом держалась давно вышедшая из моды шапочка-петушок. Он лениво погонял животину, которая и без понуканий довольно резво трусила по дороге. Я вышел из леска на обочину, окликнул возницу, стараясь сделать хрипатый голос смиренным: - Эй, уважаемый... Но парень совершенно не озадачился моим избито-грязным видом, смешно вытянул вперед полные губы, промычал "тпру-у-у"; лошадка послушно стала. Повернул ко мне добродушное круглое лицо, спросил: - Чё, доходяга, к Трофимовне бредешь? - Да я... - Понял. Садись, чего уж. Приживешься - примет. Не особенно вдаваясь в долгие размышления, я запрыгнул задницей на телегу: раз везет, так и пусть везет. Уж очень не хотелось больше торчать в сыром лесу. А дорога выведет. Возница смачно чмокнул губами, тронул поводья, и лошадка потрусила быстро и скоро. - А ты мужик еще не старый, - глянул он на меня. - Глядишь, и приживешься. Где мне предстоит прижиться, я спрашивать не стал. - А где морду так распоганили? - Да по пьянке. - А-а-а-а... Это завсегда. По пьянке вся бестолочь в этой жизни и происходит. Тока ты смотри: Трофимовна не поглядит, что молодый, коли зашибаешь крепко, вышибет на зиму глядя и - кукуй! Хотя из-за общего состояния и голова у меня соображала туго, вроде что-то я уразумел: Трофимовна, видать, мужичка себе ищет, а сама бабенка пиндитная, уважаемая, вот и подходит ей не абы кто. Словно подтверждая мои мысли, возница продолжил: - Щас вас, бомжей, к зиме в Ильичевке как грязи соберется, так что, хочешь зазимовать, так смотри.. С этим делом строго. - Парень хмыкнул: - У нас щас вроде конкурс, как раньше в институт: пять человек на место. Перебор. И в бараке - сухой закон. Понятно, Трофимовна тоже человек, до трех пьянок или до одной драки: драчунов сразу вышибает со свистом! Чтоб неповадно! Ей работники нужны, а не ухари. А там, глядишь, и к месту приспособишься. Скажем, на центральной-то усадьбе у нас еще пяток бабенок непристроенных есть, вот и в аккурат в хозяйстве мужчины надобны. Ты это, не того? - В смысле? - Ну... По бабам - ходок? А то были у нас двое, все промеж себя лизались по углам, тьфу... Так их вышибли мигом, да еще сами мужики и накостыляли! Вот такой вот парадокс получается: правит бал у нас баба, и все начальство наше бабы, как есть, потому и мужик в цене. Наша Трофимовна бает, когдась так на земле было - бабы верховодили, - так ни войн, ни катаклизмов каких... Потому как баба знает: мужика родить и вырастить трудно, а убить - раз плюнуть. Вот и берегут. Называлась даже держава та как-то, вроде что и матерщинно... - Матриархат. - Ну. Оно. Трофимовна говорит, как мужики власть забрали, так все враскосяк и пошло. - И что, не бунтуют против бабьей власти? - Кому бунтовать-то? У нас ведь те, что натерпелись, бичи да доходяги. А какие работать не хочут или умные шибко, в смысле водки пожрать, - тех, говорю, вышибают в два счета. С подзаборья вышел, под забор подыхать и пойдешь. Такое дело. - А сам ты - тоже пришлый? - Не. Я - местный, игнатьевский, - произнес круглолицый с такой важностью, будто был единственным наследным отпрыском Рюрика. - Ты кто по профессии будешь? - Был солдат. А теперь уже и не знаю. - Беда. Везде нонче беда. Одно развалили, другое не построили и вроде как не собираются. На шахрайстве только вахлаки жить могут да жиреть. Народу на воровстве не прокормиться, детей не поднять. Как поймут это те, верхние, так и дело пойдет. Власть, что с воровства кормится, захиреет; вот они верховодят, как в чужой стране, а пройдет еще годков десять такой вот разрухи, что останется? Сиро и зябко им будет где хошь: хоть в Москве той, хоть в губернии. Какие вы цари да бояре, коли по миру с протянутой рукой? То-то. И нам - хоть смертью помирай. Беда. - Парень вздохнул: Ничё, солдат. Не пропадем. И тебя к делу пристроим. Токо ты не дерись и старайся. Из дальнейших рассуждений возницы, которого звали Федором, выяснилось: был здесь когда-то колхоз "Победа", потом по новым веяниям его взялись превращать в фермерские хозяйства, да чуть не доконали вовсе. Собрались бабы и избрали председателем теперь уже АО Марью Трофимовну Прохорову; она подумала, да и решила: без мужских рук хозяйства не поднять, а беж мужской ласки и баба не работник, так, функция одна. И взялась приручать беспутных бобылей, незадачливых мужей, сорванных с места переселенцев. Бомжей тоже не чуралась; и пусть из них оставался один из десяти, а большинство с наступлением тепла подавались к югу, за. миражом вольного счастья, но дело пошло: кто-то из баб и замуж повыходил: из истосковавшихся по делу да домашнему уюту шатунов мужья нежданно получались добрые. - Что, и зарплату платит? - Ну уж это лишнее. Да и зачем бобылю зарплата? Пропить? Кормежка, одежка, крыша над головой. Поди лучше, чем на помойке рыться да под теплоцентралью ночевать. - Коммунизм. - Ну. Коммунизм. А что плохого? - И на волю никого не тянет? - Кого тянет, тех не держим. Воля, она с голодом да холодом дружится. А у нас - сыт, одет-обут. Живи.