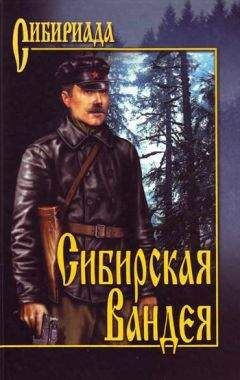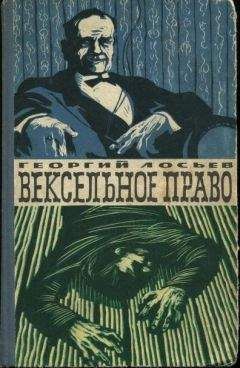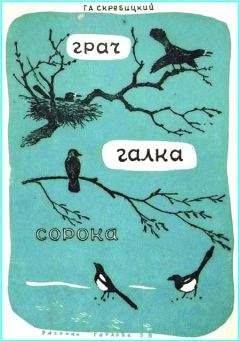Георгий Лосьев - Рассказы народного следователя
И еще шли родственники… Но с просветленными лицами, как мать «белого обормота», уходили немногие…
Александр Степанович Галаган наблюдал со своей скамьи дивана с недоумением. Уж больно просто все это у них… Грубая прямолинейность – сестра жестокости… В контрразведках вылощенные, корректные поручики и штабс-капитаны всегда сглаживали острые углы. Сложным велеречием, составленным из умеренной патетики и прекрасно разыгранного участия, заставляли жен и матерей верить, что арестованные за большевистскую ересь сосланы на неведомые «полярные острова» или высланы из страны за границу… Только под конец наши распоясались. А эти только начинают властвовать, а уже цинично откровенны… Разумеется, жизнь в эпоху революционных бурь зиждется на праве сильного. Но зачем же бравада? Грубая откровенность, невоспитанность! И участливость этого дежурного по поводу «воскресшего из мертвых» гимназиста – просто показуха… А фамилию гимназиста следует запомнить… Беневоленский. Николай Беневоленский… Такие субчики в подполье могут оказаться очень полезными. Впрочем, рано еще думать о будущем, о Беневоленских – надо думать о себе, о Галагане: как выкарабкаться?.. Впрочем, не так уж это сложно.
– Как там – родственники? Ушли? – спросил Краюхин солдата.
– Все…
– Ладно. Побудь за меня, – Краюхин подошел к Галагану: – Пойдемте, Козлов. Скоро ночь – будем пристраиваться к месту.
Афонька продолжал лежать, и никто его не тревожил…
Спустя еще несколько минут Галаган очутился в узкой подвальной камере. При тусклом свете слабенькой электрической лампочки он увидел два топчана – на втором топчане лежал кто-то, укрытый с головой гражданским зимним пальто с богатым воротником, – и плетенный из соломы дачный стул.
Окованная железом дверь камеры бесшумно захлопнулась. Галаган осмотрелся. Этот дачный стул сразу вызывал в памяти солнечную террасу, белизну скатерти, блестящий самовар на столе и свежие сливки, и землянику… Померещились белые кисейные платья и березки Куинджи… Да, ничего похожего на тюрьму. И «волчка» в двери нет, и неизбежной «параши», и, вообще, если приставить к стене сундук да прибить пару олеографий и повесить хомут – ни дать ни взять кучерская в небогатом чиновничьем доме или дворницкая. Только ни кожей, ни сивухой не пахнет, а воняет карболкой, и на свободном топчане нет тулупа.
Галаган сел и сказал вслух:
– Так-с… Поздравляю. – И подумал: «Личность Козлова они будут выяснять и проверять до утра. Время есть. Можно и отдохнуть». Александр Степанович вытянулся на топчане.
Пальто со второго топчана, не поднимаясь и не шевелясь, каким-то неприятно-скрипучим тенорком спросило:
– Вы кто?
– Случайно арестованный.
– Вы кто? – переспросило пальто без раздражения.
– Член РКП (б).
– Что такое?!
Пальто зашевелилось. Лежавший сел. Он оказался грузным стариком лет пятидесяти пяти с массивным носом-картошкой, настолько пурпурным, что его сияния не скрывала даже полутьма камеры.
Старик прощупал Галагана глазами:
– Член РКП – и в Чека?!
– Бывает, – ответил Галаган невозмутимо.
Старик опять улегся, теперь на бок, продолжая шарить глазами по Галагану.
– Считаю своим долгом предупредить вас, милостивый государь: в этом монастыре свой устав. И свои нравы. Здесь очень не любят, когда врут… И тут, в подвале нашем, и там, – старик поднял к потолку палец. – Я уже пять месяцев… шестой пошел со времени расстрела…
– Вас на расстрел водили?
– Меня – нет. Пока нет… В данном случае я имею в виду его величество «Александра Четвертого», сиречь Колчака… И Витьку Пепеляева…
Старик показался интересным. Александр Степанович даже повернулся.
– Разрешите осведомиться: с кем имею честь?
– Честь невысока… Осведомляю: Белов, товарищ министра финансов. Имел такую глупость состоять при дворе бездарнейшего из всех бездарных диктаторов мира…
– Так почему же вас?
– Сам удивляюсь, голуба… Бег жизни в стенах этого сверхсурьезного учреждения весьма быстротечен… Данте читали? Вы производите впечатление интеллигентного человека, и должен заметить: усища фельдфебельские не маскируют вас, а демаскируют. Понимаете?.. Так вот: «Входящий, оставь надежду», как сказал сеньор Данте… Примеров очень много. Я – редкое исключение.
– Но все же – почему?
– Эк вам не терпится! Вы что, лично заинтересованы?
– Помилуйте!
Старик растянул рот в громкой зевоте.
– Мне кажется, потому, что в детстве меня нещадно драли розгами. Родитель мой считал себя великим правдолюбцем, а посему драл меня самым жесточайшим образом. Заметьте, не за шалости, а именно за вранье. И это обстоятельство моей биографии наложило на сознание глубокий отпечаток. Представьте, даже в старости умудряюсь говорить правду! Вероятно, поэтому я еще продолжаю отравлять своим дыханием воздух нашей благословенной планеты… А может быть, и потому, что до всероссийской мясорубки считался в финансовом мире тузом. Не в смысле капиталов – отцовские капиталы я еще в студенческие годы пустил в трубу и всю жизнь служил, а по части финансово-экономических знаний… Да и не только в России. Труды мои заграницей изданы… М-м-да-с… Вот, может, и поэтому… держат меня в «депозите». Но не исключено и в «расход»… Между прочим, очень образное современное выражение. Эти «расходные ассигновки» господа большевики подписывают частенько, но в какую бюджетную статью они сие расточительство отнесут – ума не приложу!..
Галаган слушал со все возраставшим вниманием.
– Расход – понятие, в основе своей имеющее последующее извлечение прибыли, доходов. Иначе получается – мотовство, совершенно не оправданная кредитная операция… Если потеряли стоимость чьи-то мозги, почему нельзя извлечь энный минимум доходности из мускулов? Тот, бывший всероссийский рыжий, с башкой, пробитой палашом японского кронпринца, понимал это лучше: гнал на Сахалин, на Карийскую каторгу и выжимал из мышц материальные ценности… А современные властители – большевики – меняют дешевизну мускульной силы на удовлетворение политических страстей… Прямое расточительство! Какой смысл превращать их в мясо, которое и собака жрать не станет?! Я так и сказал этому Попову из Иркутской Чрезвычайки, а он…
– Классовая месть! – перебил Галаган.
– Эфемерное понятие, эмоции, блажь! В юности моей был период увлечения Марксом, нынешним полубогом большевиков… Но ведь и у этого небожителя ни слова о роли эмоции в экономике… Да, именно так я и сказал Попову и Чудновскому. Представьте, интеллигентные люди и очень, очень не глупы… Оказывается, изучали «Капитал» и прекрасно разбираются, но, разумеется, с других позиций, сугубо философских… Заместитель председателя Иркутской Чека Попов – он и Колчака допрашивал – мне ответил: «Принудительный труд – не наше кредо»… Чувствуете? Он сказал: «Труд должен быть радостью, наслаждением, а не рабством». Я отвечаю: «Социальная утопия». А он: «Почему утопия? Поймите, сказал, господин финансист, речь идет о новой России, которую в современные рамки и нынешние понятия о труде уложить совершенно невозможно. Вообразите: одно огромное плановое хозяйство, без всяких элементов частно-производственной анархии, без конкуренции, хозяйство, основанное на высочайших технических данных и на принципе: один для всех и все для одного». И заметьте, речь шла не об инстинктах, а об уме, о создании необходимости трудового процесса, как естественного и ответственного жизненного фактора… Понять это, безусловно, очень нелегко: слишком привыкли мы к другим нормам и иным отношениям…
Галагану уже начали надоедать рассуждения словоохотливого старика.
– Прекрасно, отлично… Но как же все-таки с вашей теорией извлечения прибылей из мускульной силы врага? Согласились оппоненты?
– Нет, не согласились… Чудновский этот, выражаясь нынешним диалектом, долбанул меня агрономией. И довольно убедительно. Знаете, что сказал? «Без прополки хорошего урожая не добьешься.» Очень убедительно. Вот только какой критерий в этой ботанике? Одуванчик, он ведь тоже сорняк. Василек еще… А глаз радует…
– Ну… и чем же кончилось?
– Да пока что, как изволите видеть, ничем… Правда, в беседах со здешним председателем мы, кажется, нашли точку соприкосновения.
Галаган оживился: может быть, этот старый болтун окажется полезным… Вскочив с топчана, Александр Степанович заботливо поправил сползшее на пол пальто старика, переставил дачный стул ближе к старикову ложу, сел рядом…
– Любопытно… Если не затруднит поделиться – буду признателен.
– Нет, не затруднит… Местный председатель – латыш. Довольно начитанный субъект и по-русски говорит сносно… Так вот, когда меня из Иркутска сюда перевезли, латыш, при первом знакомстве, мне прямо в лоб: «Россию любите?» Отвечаю: «Кажется, да. Во всяком случае, заграницей, в разных там Баденах, Ниццах и в Парижах, скучал… Только, говорю, России-то больше нет. Есть пашни, луга, перелески, болота, тайга и всякая подобная топография, а Россия – пепел… А какое вам, собственно, дело до России? Вы же латыш!» Сказал и несколько струхнул… А тот спокойно так: «Я, говорит, латыш-то русский… Но, между прочим, сказал, есть в России люди чисторусского происхождения, а душа – чужая… И начал: всю романовскую династию перебрал и двор баронов Фредериксов там и иных прочих, перекочевал к Колчаку, прикрыл его Жаненом, Ноксом и прочими джентльменами, присосавшимися к русской кулебяке во время смуты… Наконец окончил иностранные святцы и заявляет: пройдут столетия, а Россия останется. Римское государство, говорит, вырождалось, распалось, а нынче – цветущая Италия, светоч всей человеческой культуры. И так стал этот самый макаронный светоч расписывать, что я опять взорвался, заорал – знаете, я по натуре весьма несдержан. Плевать мне, кричу, на все Италии с Сицилиями и с Сардинками!.. Был я в этом «светильнике», смотрел на голодранцев лаццарони, пил кислятину киянти, проститутке одной коленкой под зад поддал. Липнут они там табунами, ни одна самая распоследняя русская шлюха до такой наглости не дойдет, чтобы иностранца на улице соблазнять. Что, спрашиваю, ваши богомазы итальянские, Рафаэли да Боттичелли, создали? Какую духовную культуру? Да наши суздальские, владимирские иконописцы разве такое могли бы, когда бы им вместо помещичьей плети и ржаной краюхи – сайку да калач… И – пошел… До того раскричался, что не знаю, как и опомнился. А латыш прищурил свои рыбьи глаза и ухмыляется… Ну, говорит, это вы от бескультурья русского не уважаете итальянское искусство… У них, говорит, Данте, Боккачьо… Я еще пуще взбесился. Опять закричал, что он мне порнографиста Боккачьо против наших Пушкина и Лермонтова… Смотрю – несколько человек там собралось: слушают, улыбаются… Опомнился, остыл. Только взяла меня, знаете, безмерная такая горечь… «Была говорю, пушкинская Россия, так вы ее с вашей революцией по миру пустили!» А он – «Не ваш ли Гойер помогал Колчаку разбазаривать золотой фонд?» Я – «Это, мол, деталь, мелочь». Он – «Хороша деталь – золотой фонд государства!» А я ему – про всеобщее разорение, обнищание…