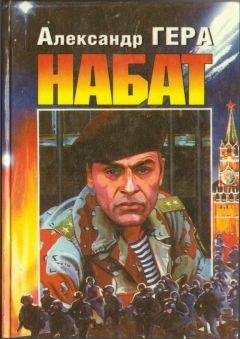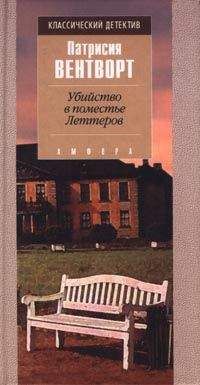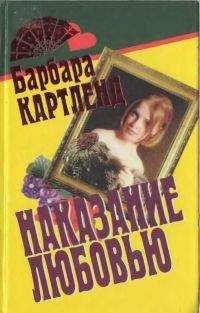Николай Псурцев - Голодные прираки
Волнение тонкой юбки, блеск гладких колготок, прозрачность беспокойной блузки, мягкий рельеф под тесным платьем, неустойчивость высокой шпильки, вольный жакет на сильных плечах, шуршание шелковой сорочки, бег переливающихся морщинок на просторных брюках, бесшумность лайковых туфель – вот что вызывает ЖЕЛАНИЕ.
Одежда – это все равно как лобстеры, шампанское «Дом Периньон» и изысканная беседа в предвкушении любви. Одежда – это равно как первая встреча взглядов, первый блеск в глазах, первый огонь, первое прикосновение. Одежда – это сигнал для тех, кто такие сигналы понимает.
О, если бы я за одни сутки почти подряд не поимел бы сразу двух чудеснейших женщин, я бы сегодня, тут, в доме, в который только что вошел, сгорел бы к чертям собачьим от смертельно пожирающего желания. И к женщинам, и к мужчинам, мать их всех! Одетые броско и стильно, под вздох бьющие ароматами духов, одеколонов и тел, они ходили вокруг, стремясь коснуться друг друга, тронуть, задеть, шлепнуть, поцеловать, прижаться, согреться, помочиться, проглотить, куснуть, облизать, пукнуть, влюбиться, отдаться – все и всем. Так мне казалось.
Так мне показалось.
Но было ли так на самом деле – с уверенностью сказать не могу.
Сегодня здесь представляли новую коллекцию Дома, Я услышал, так говорили. Те, кто вокруг. Громко и неслышно.
Я не снял свою красивую куртку. Но никто мне ничего не сказал. На меня смотрели. Многие. И по-разному. Больше с интересом. Я невольно отвечал тем же. Но потом мне не понравилось, что в моих глазах можно прочесть что-то. И я надел темные очки. Женщина в узком черном платье, черная и сама – негритянка, наверное, а может, просто загоревшая где-то круто – выскользнула из толпы, шагнула ко мне и сняла с меня очки, улыбнулась. Я не растерялся, ухватил женщину за руку, вырвал из ее тонких пальцев свои очки и надел их снова, черная пожала лоснящимися – от пота, от масла, от жира, от природы – плечами и ушла, ни слова не сказав, – немая, глупая, неместная, неземная – вправо, влево, вбок, вперед, назад, Переварилась толпой, я предположил, и где-то с заднего прохода, видно, дерьмом вышла – или не видно. Я поискал ее глазами, руками натыкаясь на тела, а ногами на пол. Не нашел ни там, ни сям. Вместо – увидел двух старушек, которые заметно прятались в неукромном уголке зала, которые с тыльной стороны своих ладошек, страстно выкатив глаза, нюхали белый порошок (кокаин) и краснели тут же и без того красными носами, которые хихикали через паузу, хихикали, хихикали, маленькие, сморщенные – сестры, подружки, одноклассницы, односадницы, одноясленницы – хихикали, хихикали и вдруг задрали платья, перед собой похваляясь, являя всем и всем узкое и тонкое девичье белье…
И тут пришло время, и кто-то, кого я не видел (так как с удовольствием смотрел на старушек) наступил мне на ноги, на обе сразу, больно. О-ля-ля, передо мной, нос к носу, близко-близко имелась женщина… А, впрочем, нет, имелся мужчина в женском парике, накрашенный, намакияженный, симпатичный, но и не в моем вкусе – крупноватый и пахучий: «Ам!» – сказал он и клацнул толстыми зубами, кокетливо и слюняво. «Пошел на х…!» – сказал я доброжелательно и улыбчиво. «Понял», – ответил пахучий и тотчас сошел с моих ботинок. Не успел он ступить на пол, как я своим каблуком резко придавил его пальцы – сначала на одной ноге, а затем на другой. Крупноватый вскрикнул горестно и сказал с возмущением: «Зачем? Я и так все понял». Он и еще что-то потом сказал, но я уже забыл о нем, потому что за его головой увидел занятное: две группы людей (в каждой человек по двадцать, в одной группе – женщины, в другой – одни только мужчины) стояли полностью неподвижные друг против друга. Стояли, и все, мать их! Я отодвинул толстозубого и протиснулся поближе. И впрямь стоят и не двигаются. Вот потеха. Я прошел между ними туда-сюда. Стоят – глазами не шевелят. Не манекены ли? Я их руками тронул, не всех, некоторых, тех кто ближе стоял, – теплые, пахнут, дышат. Моргают – редко. И никто на них не обращает внимания, один я, как дурак, меж ними болтаюсь. Я тогда к одной из дам пышноволосой, губастой, в белом платье длинном, облегающем приник и губы ее с истовой силой всосал в себя, И она ответила… Она ответила! Не пошевелив, правда, телом, а пошевелив лишь губами, зубами и языком и голосовыми связками. «Какое раздолье, – подумал я, – я буду приходить сюда каждый день» Что-то ударило меня по икрам. Я чуть не упал. Обернулся. Две старушки-наркоманки сидели в своем огромном инвалидном кресле и тыкались его подножкой мне в ноги.«Дорогу! Дорогу!» – грозно шипели они. Я отнял руки от женщины в белом и длинном, и посторонился. А кресло опять двинулось на меня. «Дорогу!» – недобро блеяли старушки – синеволосые, бледноглазые, съеженные, сухокожие. Я выругался, но снова уступил. А кресло опять-таки развернулось ко мне. Я, плечи сведя, растерянный в толпу воткнулся тогда, и скоро забыл уже для чего, знал только – сзади беда. Мне улыбались, желали удачи, целовали воздушно, совали бутылки, сигаретные пачки, зажигалки и спички, конфеты, гондоны, называли себя, ласкали привычно, сотрясались от смеха, звонко били по заду…
Я в стенку уперся. Нет хода мне дальше. Наверное, пора.
Решил повернуться. Старушки несутся. Вопят про дорогу. Я выждал мгновение. И влево метнулся. Тут грохот, конечно. Головками в стенку. Упали – не дышат. Лишь локоны синие трепет сквозняк…
Я опустился перед старушками на колени, потрогал пульс на шее у одной, и у другой. Без особой надежды. Пульса не было, как не было и старушек.
Я сидел на полу и озабоченно мял пальцами крашеный плинтус. Мать мою!
Я встал, отряхнул брюки на коленях. Не без неловкости огляделся вокруг. И тотчас подскочил чубатый официант с подносом. Я взял рюмку с водкой. Выпил. Поставил рюмку на поднос. Усмехнулся. Вынул сигарету. Закурил. Сигаретка пахнула дымком. Дымок завился нежно и вверх поднялся. Я взглядом за ним потянулся. Выше, выше… На потолке себя, на себя глядящего, увидел. В зеркальном потолке отражался не только я, но и моя сигаретка. Мы вдвоем прекрасно смотрелись. Налюбовавшись собой и сигареткой, я решил посмотреть и на других людей, и на другие сигаретки. Посмотрел. И увидел… Никого не увидел. И ничего не увидел. Кроме Ники Визиновой. Кроме ее отражения. Дрожащий, я в тот же миг опустил глаза и посмотрел в сторону пандуса. И не увидел ее там. Как же так? Я опять взглянул на потолок. ОНА там, где и была. И снова я скользнул взглядом вниз. Нет ее. Нет. На ее месте какой-то увешанный фотоаппаратурой лохматый парень в сером твидовом пиджаке судорожно из всех фотоаппаратов, подряд, сверкая вспышкой, фотографировал свои голые ноги – трясся от возбуждения, что-то выкрикивал и что-то пел незнакомое. Смятые брюки его лежали на краю пандуса, и некоторые женщины осторожно подходили к брюкам и, восторженно жмурясь, нюхали их. Я хотел было опять поднять голову к потолку, но потом сообразил-таки, вашу мать, что я не с той стороны пандуса ищу ЕЕ – в зеркале ведь все наоборот. Я втиснулся в толпу и подобрался ближе к той стороне, где и должна была быть Ника Визинова. И она была.
Я скажу ей, когда подойду, что это я. Просто я. И больше ничего говорить не стану. Потому что я не знаю, что я могу сказать, когда подойду к ней, когда посмотрю на нее, когда протяну к ней руку, коснусь ее, когда обожгу об нее свои пальцы.
Свет потух – и женщины кокетливо вскрикнули, а мужчины мужественно усмехнулись – и зажегся снова теперь лишь над подиумом и под подиумом. Громче зазвучала музыка. (Пел, кажется, ранний Синатра, или поздний…) На подиум, улыбаясь и пританцовывая, выступили манекенщицы – под аплодисменты зала – и закружились вокруг друг друга, демонстрируя то, что им сегодня было велено демонстрировать, и не более того.
Знак в моделях был одинаков – люби меня.
Минимум самовыражения ради самоутверждения – люби меня.
Потрясает только то, что подчеркивает, а не то, что скрывает, – люби меня.
Платье должно пахнуть не только духами, сколько желанием – люби меня.
Научись читать мою одежду и ты увидишь, что я хочу – люби меня.
Я научился читать, Ника. Я вижу, что ты хочешь. Я люблю тебя.
Не грубо, но настойчиво и умело, вспоминая былые тренировки, я расклеивал толпу и пробирался к подиуму, к Нике. Плечо вперед и с силой вбок, обязательная улыбка, обязательное извинение, плечо вперед и круто вбок, обязательная улыбка…
Я близко.
Вот он я.
Смотри на меня.
Но не на меня она смотрела. Рядом с ней стояла высокая, худая дама в черном жакете, напоминающем мужской смокинг, в черных же брюках, остроносая, остроглазая, острогубая, остролицая, с прямыми медными волосами до плеч. Вот на нее Ника Визинова и смотрела, и только на нее, мать ее, – чуть снизу и чуть вверх. А та смотрела на подиум. Курила. Щурилась. Она смотрела на кружащихся манекенщиц, а Ника Визинова смотрела на нее. Не отрываясь, улыбаясь счастливо.
Я уткнулся в чьи-то широкие сильные спины и попробовал втиснуть плечо меж них, и попробовал развернуться, приготовив уже улыбку и извинение. Но обладатели крепких спин не поддались мне, стояли как стояли, чуть лишь шевельнувшись, повернувшись, матюкнувшись. Кто такие?… Я коротко ударил одному из них мыском по коленному сгибу и за плечо, затем, на себя рванул. Пошло-поехало. Малый. заваливался назад, темечко волосатое моей улыбке подставляя. И на старуху бывает… Но второй тут – резкий, – не мешкая, ствол мне под нос сунул, прошипел злобно: «Не оторвешься – в…бу!» Вот оно как. Охрана. Я мог бы и раньше сообразить. Я молча отступил на шаг и еще на шаг и втерся в толпу, улыбаясь и извиняясь. Ника Визинова что-то зашептала на ухо своей перерослой соседке, посмеиваясь безмятежно, губами острого уха ее касаясь, с удовольствием, почти целуя. Почти целуя!