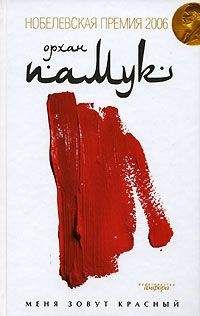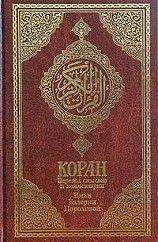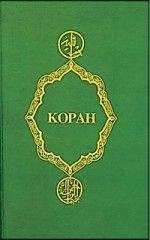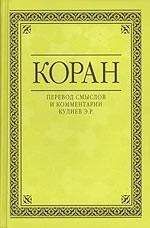Орхан Памук - Имя мне – Красный
Последнее открытие принадлежало не мне, а Кара, хотя именно я, переводя увеличительное стекло с одной страницы на другую, руководил поисками. Однако Кара, страшась пыток и мечтая вернуться к ждущей дома жене, вглядывался в рисунки не менее внимательно. Так мы и провели все послеобеденное время, изучая девять рисунков из книги Эниште с помощью способа недиме и обмениваясь мнениями об увиденном.
Покойный Эниште ни одной страницы не доверил кому-нибудь одному из моих художников, к большинству рисунков приложили руку все трое. Стало быть, страницы часто путешествовали из дома в дом. На некоторых рисунках я обнаружил следы еще чьей-то руки и разозлился, подумав, до чего же бездарен гнусный убийца; однако Кара сказал, что эти осторожные мазки наносил Эниште, и мы не пошли по ложному следу. В конце концов стало совершенно ясно, что, если не считать несчастного Зарифа-эфенди, который делал для книги Эниште почти такие же заставки, как для «Сурнаме» (до чего же больно мне было это видеть!), и, насколько я могу судить, кое-где прошелся своей кистью по стенам, листьям и облакам, над рисунками работали только трое: Зейтин, Келебек и Лейлек. Лучшие художники дворцовой мастерской, мои любимые ученики, которых я пестовал с детских лет…
Я решил рассказать об особенностях дара, мастерства и характера каждого из них, думая, что это поможет нам в поисках. Получилось, впрочем, что рассказ я вел не только о моих учениках, но и о собственной жизни.
Зейтин
На самом деле его зовут Велиджан. Не знаю, есть ли у него какие-нибудь другие прозвища, кроме того, что дал ему я, потому что ни разу не видел, чтобы он где-нибудь ставил подпись. Будучи подмастерьем, он провожал меня в мастерскую по вторникам. Он очень горд, а потому, если бы унизился до того, чтобы поставить подпись, не стал бы ее прятать, желая, чтобы все об этом узнали. Аллах с избытком одарил его. Он может взяться за любую работу, от разметки страницы до заставок, и сделает ее легче и лучше, чем кто бы то ни было. Ни один художник в моей мастерской не сравнится с ним в умении рисовать деревья, животных и человеческие лица. Отец Зейтина, который, если я правильно помню, привез мальчика в Стамбул, когда тому было десять лет, в свое время учился в шахской мастерской Тебриза у мастера Сиявуша, славившегося умением изображать лица; через своих учителей Сиявуш был связан с художественной традицией, восходящей к монголам и китайцам. Подобно старым мастерам, которые полтора столетия назад осели в Самарканде, Бухаре и Герате, Зейтин рисует юных возлюбленных в китайской манере, то есть луноликими. Он всегда был замкнут: и в годы ученичества, и позже, когда стал мастером; как я ни бился, у меня не получилось до конца разобраться в его характере. Мне хотелось бы, чтобы он вышел за пределы столь глубоко укоренившейся в его душе монголо-китайско-гератской традиции, чтобы умел в случае необходимости вовсе забывать ее методы. Когда я говорил ему об этом, он, подобно многим художникам, перебирающимся из страны в страну, из одной мастерской в другую, тут же отвечал, что и так уже их забыл, да никогда по-настоящему им и не следовал. Большинство художников как раз тем и ценны, что хранят в памяти образцы, созданные старыми мастерами, но Велиджану лучше было бы их забыть – он, и так большой художник, стал бы тогда по-настоящему великим. Когда художник хранит так глубоко в душе то, чему научился от своих наставников, будто это грех, который он не может побороть и должен таить от других, то от этого бывает двойная польза, о которой сам художник и не догадывается. Во-первых, он испытывает чувство вины и отчуждения, а это помогает созреть его дару, если таковой имеется. А во-вторых, сталкиваясь с трудной задачей, он вспоминает то, что якобы забыл, и какой-нибудь из старых гератских образцов помогает ему справиться с новым предметом, новой историей, непривычной сценой. У Зейтина прекрасный глаз, а потому он умеет гармонично вплетать в новые рисунки то, чему научился у старых мастеров времен шаха Тахмаспа. В его работах традиции Герата и искусство Стамбула живут в согласии и становятся единым целым.
Ко всем своим художникам я хотя бы раз заходил домой без предупреждения; однажды пришел и к Зейтину. Его рабочее место сильно отличалось от моего, да и у других мастеров такого не увидишь: краски, кисти, раковины для лощения бумаги, подставки свалены в кучу, кругом грязь и беспорядок. Я не понимаю, как можно работать в такой обстановке, а он нисколько не смутился из-за того, что я увидел это безобразие. Еще надо отметить, что он не брался за работу на стороне, чтобы получить пару лишних акче. После того как я рассказал обо всем этом, Кара вспомнил, что, по мнению Эниште, Зейтина более других привлекали методы европейских мастеров и он научился использовать их гармоничнее, чем остальные. Я понимал, что в устах покойного глупца это была похвала; понимал также и то, что он ошибался. Как я уже говорил, мне известно, что Зейтин гораздо сильнее, чем видится со стороны, привязан к эпохе Бехзада, обычаям старых мастеров и вообще к гератской традиции, дошедшей до него через учителя отца, Сиявуша, и наставника Сиявуша, Музаффера. Поскольку я знал, что он стремится скрыть от других эту привязанность, мне все время казалось, что у него наверняка есть и другие тайны. Зейтин – самый молчаливый, самый замкнутый, самый коварный и лицемерный из моих художников (это я говорил про себя). Когда начальник стражи заводит речь о пытках, мне в первую очередь представляется Зейтин. (Мне и хочется, и не хочется, чтобы его пытали.) Глаз у него проницательный, как у джинна, он все видит, все замечает, в том числе и мои недостатки, но, как всякий человек без родины, пригревшийся на новом месте, предпочитает вести себя осторожно и не говорить во всеуслышание о чужих ошибках. Да, он скрытен и коварен, но, по-моему, не убийца. (Этого я тоже Кара не сказал.) Дело в том, что он ни во что не верит. И в деньги не верит, хотя трусливо их копит. А между тем убийцы, вопреки общепринятому мнению, получаются не из тех, кто ни во что не верит, а из тех, кто верит слишком сильно. Всем известно, что рисунок может быть вызовом Аллаху – да не постигнет нас эта участь! – и в этом смысле ни во что не верящий Зейтин – истинный художник. Однако сейчас мне кажется, что его дар уступает мастерству Келебека и даже Лейлека. Но я не возражал бы иметь такого сына, как он. Когда я говорил об этом, мне захотелось, чтобы Кара позавидовал Зейтину, – а то в его широко открытых глазах читалось лишь детское любопытство. Я сказал ему, что никто не может сравниться с Зейтином, когда тот рисует черными чернилами, делая для муракка отдельные изображения воинов и охотников, аистов и журавлей в китайской манере на фоне пейзажа, и прекрасных юношей, что сидят под деревом, читая стихи и играя на уде; нет ему равных в умении изобразить печаль влюбленных, ярость размахивающего саблей шаха, страх на лице удальца, отшатывающегося от напавшего на него дракона.
– Возможно, Эниште именно ему собирался поручить последний рисунок, на котором наш султан должен быть изображен так, как в работах европейских мастеров, – предположил Кара.
Он что, предлагает мне головоломку?
– Будь это так, зачем Зейтину после убийства Эниште уносить с собой рисунок, о котором он и так все знал? – спросил я. – Зачем ему вообще в таком случае было убивать Эниште?
Мы немного подумали.
– Может быть, в рисунке обнаружился какой-нибудь недостаток? – предположил Кара. – Кроме того, Зейтин мог раскаяться и испугаться. А может… – Он помолчал, раздумывая, и продолжил: – А может, убив бедного Эниште, он просто захотел нанести ущерб его книге или же взять себе что-нибудь на память? В конце концов, разве не мог он забрать рисунок просто так, без особой на то причины? Зейтин – большой художник и должен был с уважением отнестись к хорошему рисунку.
– О том, что Зейтин большой художник, мы уже говорили, – разозлился я. – Но что до рисунков, сделанных для Эниште, то ни один из них хорошим не назовешь.
– Мы не видели последний, – дерзко заявил Кара.
Келебек
Для многих он – Хасан Челеби из Барутхане, а для меня всегда был Келебеком. Это прозвище напоминает мне о его детстве и юности, но он и сейчас так красив, что всякий, кто посмотрит на него, захочет посмотреть еще раз, дабы убедиться, что глаза его не обманули. Удивительно, что дар Келебека не уступает его красоте. Он мастер цвета, это его самая сильная сторона; кажется, что рисует он просто из любви к цвету. Однако у него есть и недостатки, и я не стал их скрывать: рассеянность, нерешительность, отсутствие целеустремленности. Желая быть справедливым, я сразу же прибавил, что Келебек – истинный художник, рисующий сердцем. Точнее, он истинный художник тогда, когда рисует, следуя чувству, а не разуму и желая доставить радость глазам, а не удовлетворить прихоти низменного животного, сидящего внутри каждого из нас, или потешить гордость султана. Он рисует широкими, спокойными, радостными, округлыми линиями, смело наносит яркие, беспримесные краски, и всегда в тайной композиции его рисунка находишь милую глазу закругленность; можно подумать, что он брал уроки у мастеров, работавших сорок лет назад в Казвине, – но обучал его я, а не те давно сгнившие в могилах мастера. Видимо, поэтому я люблю его как сына, и даже больше, но никогда им не восхищаюсь. В детстве и в первые годы юности ему, как и всем другим моим ученикам, частенько от меня доставалось кистью, линейкой и даже поленом, но нельзя сказать, что по этой причине я не испытываю к нему уважения. Я и Лейлека часто бил линейкой, но уважаю его. Побои мастера не подавляют шайтана и джиннов таланта в душе ученика, как принято считать, а лишь заставляют их на время затаиться. Если побои справедливы, то позже, когда художник взрослеет, они вырываются на волю и подталкивают его к работе. Благодаря моим побоям Келебек стал счастливым и усердным художником.