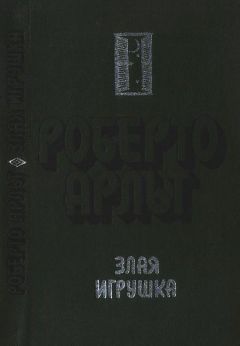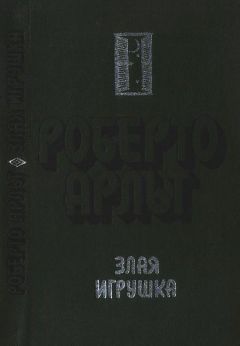Роберто Савьяно - Гоморра
Роль презерватива для Мондрагоне выполнял Август Ла Торре. Он решил заботиться о здоровье своих подданных. Город уподобился своего рода храму, гарантирующему защиту от самой страшной инфекционной болезни. Пока мир боролся с ВИЧ, север провинции Казерта находился под строжайшим контролем. Клан проявлял бдительность. Следил за результатами анализов и располагал полным списком больных — инфекция не должна была коснуться их земли. Поэтому сразу стало известно, что приближенный к Августу Фернандо Броделла был ВИЧ-инфицирован. Он представлял собой опасность, потому что нередко захаживал к местным девушкам. В отличие от семьи Бидоньетти, делавшей за свой счет операции членам клана в лучших клиниках Европы и находившей для них самых умелых докторов, Ла Торре и не подумал отправить его к хорошему врачу или оплатить необходимое лечение. Броделлу хладнокровно убили. Клан отдал приказ избавляться от заболевших, чтобы не допустить эпидемии. Инфекционную болезнь, передающуюся наименее контролируемым путем — половым, могло остановить только уничтожение ее переносчиков. Только лишив больного жизни, можно было быть уверенными в том, что он никого не заразит.
Безопасность ценилась кампанийцами и при вложении денег. Ла Торре купили на территории Анакапри виллу, в которой располагалась база карабинеров. Выплачиваемая карабинерами арендная плата избавляла их от возможных проблем. Потом клан понял, что туризм принесет больший доход, и карабинеров выселили. Обустроили в здании шесть апартаментов с садиками и парковочными местами и получили туристический комплекс, конфискованный впоследствии Комиссией по расследованию деятельности мафии. Законные надежные инвестирования, не вызывающие подозрений.
После явки с повинной Августа новый босс, Луиджи Франьоли, преданный соратник Ла Торре, столкнулся с трудностями, связанными с некоторыми членами клана, например с Джузеппе Манконе по кличке Рэмбо. Манконе отдаленно напоминал Сталлоне, в основном перекачанным в спортзале телом. Он взялся за организацию точек сбыта, а значит, мог вскоре выступить против старых боссов, чья репутация была несколько подмочена после сговора с полицией. По сведениям Управления по борьбе с мафией, кланы Мондрагоне обратились к семье Бирра из Геркуланума, чтобы нанять киллеров. Двое наемников прибыли в Мондрагоне в августе 2003 года, чтобы убить Рэмбо. Приехали на скутере, неповоротливом, но зато внушающем ужас, так что просто грех было не использовать его в случае покушения. В этом городе они оказались впервые, но сразу с легкостью узнали, что нужный им человек находится, как обычно, в баре Roxy. Скутер остановился у входа. Один из его пассажиров уверенно подошел к Рэмбо, выпустил в него целую обойму и вернулся к своему товарищу.
— Все в порядке? Дело сделано?
— Да, да, готово, поехали…
Около бара стояли несколько девушек и обсуждали планы на Феррагосто. Когда они увидели бегущего человека, то сразу поняли, в чем дело, и не спутали звук выстрелов с хлопками петард. Они упали на асфальт лицом вниз, опасаясь, как бы убийца их не увидел, — в этом случае они стали бы свидетелями. Но одна из них не опустила глаз. Она смотрела на убийцу, не отводя взгляда, не прижимаясь к земле грудью и не закрывая руками лицо. Это была тридцатипятилетняя воспитательница детского сада. Она заявила о покушении, дала показания, пришла на опознание. Она могла бы промолчать, сделать вид, что ничего не произошло, вернуться домой и жить как раньше, хотя бы из страха, из боязни угроз. Но хуже всего становилось от осознания бесполезности: бесполезно арестовывать киллера, он лишь один из многих. Несмотря на это, она все же заговорила, потому что хотела правды. Той настоящей правды, которая заключается в самом обычном поступке, нормальном, простом, необходимом, как дыхание. Женщина рассказала об увиденном, не попросив ничего взамен. Ни денег, ни охраны — она не назначала цену своим словам. Просто рассказала о том, чему стала свидетельницей, описала лицо убийцы, угловатые скулы, густые брови. Выстрелив, тот сел за спину напарника на поджидавший его скутер и уехал. Убийцы плутали по дороге, заезжая в тупики, то и дело возвращаясь назад, чтобы запутать следы. Они были похожи скорее на сумасшедших туристов, чем на киллеров.
Судебный процесс, начатый в связи с показаниями воспитательницы, закончился приговором к пожизненному заключению двадцатичетырехлетнего Сальваторе Чефарьелло, состоявшего на службе у кланов Геркуланума. Магистрат, записывавший показания женщины, назвал ее розой в пустыне, выросшей на земле, где правду придумывает сильнейший, где она редко становится известна всем и всплывает, только когда за нее есть что выторговать.
Это признание не могло не повлиять на ее жизнь, похожую на нить, зацепившуюся за гвоздь: теперь полотно ее существования распускалось по мере развития судебного процесса. Она должна была выйти замуж, но жених бросил ее; потеряла работу и переехала в более надежное место, где государство выплачивало ей мизерное пособие, которого хватало только на самое необходимое. Часть родственников отвернулась от нее. Она оказалась в одиночестве. В одиночестве, которое бесцеремонно врывается в повседневную жизнь: хочется пойти танцевать, но не с кем, в трубке длинные гудки, друзья отдаляются понемногу — до тех пор, пока не исчезнут окончательно. Пугает не признание само по себе, не возмутительное для всех окружающих сотрудничество со следствием. Логика круговой поруки не настолько банальна. Поступок воспитательницы возмутителен, потому что этот выбор подается как естественный, инстинктивный. Необходимость сказать правду.
Совершив такой поступок, высказав свое мнение, ты будто заявляешь: «Да, дойти до истины удастся даже там, где ее ищут лишь ради выгоды, чтобы не прогадать на лжи, и где никто не понимает, зачем добиваться правды ради нее самой». Окружающие чувствуют себя неловко, ощутив на себе взгляд того, кто восстал против правил жизни, которые они безропотно приняли. Приняли и ничуть не стыдятся этого, потому что так должно быть, потому что так было всегда, и невозможно ничего изменить собственными силами, а значит, не стоит и пытаться, надо плыть по течению и жить по правилам, которые устанавливаешь не ты.
В Абердине я все время натыкался взглядом на материальные подтверждения успешности итальянского бизнеса. Кажется странным видеть здесь, на таком расстоянии от дома, отростки известного тебе корня. Сложно описать ощущение, которое вызывают у тебя эти рестораны, офисы, страховые компании, дома: будто бы тебя берут за лодыжки, переворачивают вниз головой и начинают трясти, пока из карманов не вывалится мелочь, ключи от квартиры — в общем, все, что только может вывалиться из карманов и изо рта, даже душа, если только она подлежит коммерциализации. Денежные потоки струились повсюду, подобно лучам, питающимся энергией из основополагающего центра. Понимать это — совсем не то, что видеть. Я отправился с Маттео на собеседование. Его, конечно же, взяли. Он и мне предложил остаться в Абердине.
— Здесь достаточно быть самим собой, Роббе…
Кампанийское происхождение и испускаемое им сияние были необходимы Маттео, чтобы его резюме, высшее образование и желание работать оценили по достоинству. В Шотландии это происхождение сделало его таким же, как и все, гражданином, обладающим правами, тогда как в Италии к нему относились как к мусору, лишенному всякой защиты и не представляющему интереса, изначально проигравшему из-за ошибочно выбранного жизненного пути. Я никогда не видел его таким счастливым. Чем сильнее он радовался, тем мне становилось горше и тоскливее. Я не мог абстрагироваться от места моего рождения, от поступков ненавистных мне людей, не мог почувствовать себя абсолютно чуждым беспощадным процессам, разрушавшим жизни и желания. Родившийся здесь подобен щенку охотничьей собаки, который чует запах кролика с первой же минуты своего существования. Хочешь ты этого или нет, но за кроликом ты все равно побежишь, пусть потом и отпустишь его невредимым, сжав поплотнее клыки. Я читал по следам, видел дороги, тропки, воспринимал их с бессознательной одержимостью, обладая проклятым умением проникать в самую суть происходящего на завоеванной земле.
Мне хотелось лишь одного: убраться поскорее из Шотландии и никогда больше не возвращаться. Я уехал сразу же, как только смог. Уснуть в самолете не удавалось, воздушные ямы и тьма за иллюминатором сжимали мне горло, словно туго завязанный галстук. Вероятно, приступ клаустрофобии не был связан с ограниченным пространством маленького самолета или чернотой снаружи: я чувствовал себя раздавленным действительностью, казавшейся скотным двором, набитым истощенными животными, набрасывающимися на еду и готовыми быть съеденными после этого. Будто бы весь мир — это одна общая территория с едиными законами развития, понятными каждому. Спасения нет — либо тебя принуждают принять участие в сражении, либо ты прекращаешь свое существование. Я возвращался в Италию, имея в голове четкое представление о двух путях, двух скоростных магистралях: по первой мчались в одном направлении капиталы, предназначенные для вливания в европейскую экономику, по второй же на юг стекалось то, что повсюду считалось отравой. Она поступала через форсируемые петли открытой и гибкой экономики, в результате непрерывного цикла трансформаций создавая в других местах богатства, которые никогда не употребились бы на развитие породившей их земли.