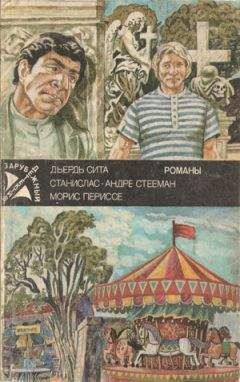Вилли Корсари - Из собрания детективов «Радуги». Том 2
Идиллия кончилась. Массимо неподвижно сидел в машине, подыскивая всевозможные оправдания горячности Лелло: он молод, недавно купил свой «фиат», из-за тяжелой работы в муниципалитете и одуряющей жары разнервничался… Все это так, но трогательное ощущение, что перед тобой униженный Монсу Траве, исчезло. Сам виноват, зачем я посмотрел на него с откровенным вожделением, упрекнул себя Массимо. К тому же, чтобы окончательно не погубить вечер, ему придется успокаивать этого маленького наглого невежду. Он тоже вылез из машины.
— Зачем ты мне звонил, если я тебя раздражаю? — накинулся на него Лелло, который явно искал ссоры. — Не лучше ли нам вообще расстаться?
При этих ссорах больше всего каждого из них бесило молчание другого или, что еще хуже, дружеская попытка изменить тему разговора.
В таких случаях лучшей защитой было нападение.
— Я искал тебя, потому что собираюсь завтра съездить в Монферрато насчет дома, и хотел с тобой посоветоваться. Не знаю, понравится ли тебе твоя комната, — грустно сказал Массимо.
— Моя комната?…
Массимо готов был проглотить язык. Как же он не понял, что в подобной ситуации любое слово — ошибка! Но было уже поздно. Теперь надо продолжать игру.
— Ее окна выходят на долину. И неподалеку растет ливанский кедр… Кровать с балдахином…
— Конечно, односпальная, — прошипел Лелло.
— Кажется, да, хотя точно не помню.
— Еще бы, о настоящей, супружеской постели мне и мечтать не приходится. У каждого своя комната, не так ли, да еще на разных этажах.
— Моя в том же коридоре, напротив, — робко возразил Массимо.
Лелло склонился в низком поклоне.
— Благодарю вас, мой господин! Но я предпочел бы спать на чердаке. А еще лучше — в подвале, как и подобает служащему моего ранга.
— Перестань, Лелло…
— Конечно! Личная свобода прежде всего. Смею ли я вторгаться в личную жизнь синьора Массимо. Ну хорошо, я пущу тебя в замок, Золушка, но запомни — едва наступит полночь, ты снова превратишься в жалкого сына служанки! Так вот, дорогой мой Массимо, сын служанки хотел бы тебе сообщить…
А что, собственно, мешает мне спокойно, с хладнокровием генерала Клаузевица послать его к чертовой матери? Ответ прост — страх перед последующей, еще более постыдной сценой примирения.
И все-таки Массимо не выдержал. Махнул рукой и мрачно сказал:
— Ладно, с меня хватит! — И широким шагом пошел прочь через площадь.
Он дорого заплатил за отсутствие выдержки.
Лелло догнал его, со всхлипом схватил за полу пиджака и в конце концов заставил довольно громко сказать: «Я тебя прощаю, Лелло». А затем уговорил отпраздновать примирение в открытом кафе. Там они просидели до восьми вечера, попивая холодное «поммери» и мирно беседуя о том, что еще надо подремонтировать на «их маленькой вилле».
Щемящая жалость к Лелло заставила Массимо согласиться провести субботнее утро в «Балуне» в поисках оригинальной деревенской утвари. Не смог он отказать Лелло и в другой просьбе — поужинать этим вечером в ресторане на холме, куда они отправятся на «фиате-500» с открытым верхом. Они промчатся мимо чудных полей и лугов, и лица их будет обвевать свежий ветер.
Улицы были буквально запружены машинами. Небо еще оставалось на редкость светлым, но воды реки По уже потемнели, а зеленые холмы вдали постепенно исчезали в туманной вечерней дымке. Теплый ветер трепал волосы Лелло, который у каждого светофора оборачивался, нежно ему улыбался и робко дотрагивался до колена. Массимо ответил ему вымученной улыбкой, а сам подумал, что другой военный гений — Веллингтон — однажды сказал: «Кроме битвы проигранной, нет ничего более грустного, чем битва выигранная». Вот только пойди разберись, кто из них двоих сегодня вечером выиграл, а кто проиграл.
«Фиат-500» с открытым верхом гудел и содрогался так, словно они ехали не на автомобиле, а на швейной машине.
9
— «Туристы, прибывшие в Рим из княжеств Персидского залива, подтверждают, что после беспорядков на прошлой неделе имеются многочисленные жертвы. Официальное коммюнике, переданное местным радио, утверждает, что положение нормализовалось, и опровергает слухи о том, что шах покинул страну… Сын шаха дал в Оксфорде интервью, в котором утверждает, что никогда не просил защиты у британской полиции и неизменно останется верен…»
— Болван, — проворчала синьора Табуссо.
— Почему? — удивилась Вирджиния. — Что он, бедняга, натворил?
— Кто? — не поняла синьора Табуссо.
— Сын шаха, — пояснила Вирджиния, показав на молодого смуглого человека с аккуратными усиками, который на телеэкране беззвучно шевелил губами.
— Откуда я знаю? Да я вовсе не о нем думала.
— Что такое? — встрепенулась старая служанка, задремавшая было перед телевизором. — А-а, опять эта политика…
Голова ее упала на грудь, и она снова погрузилась в сон.
В кухне стало совсем темно, поросший каштанами склон холма укрывал поместье «Хорошие груши» от вечерних закатных лучей. Три женщины, поужинав, сидели у светящегося молочным светом экрана.
Синьора Табуссо вывела собаку и подозрительно оглядела окрестности. В саду было тихо. Розы на клумбе позади дома благоухали, как всегда, терпко и нежно, петунии тоже наполняли сад своим ароматом. Снизу, оттуда, где начинался большой «луг» с его темной массой деревьев и кустов, доносился запах сырого подлеска.
— Ну, пошевеливайся, бездельник, — с грубой лаской в голосе сказала синьора Табуссо.
Пес сразу повиновался.
В долине, воронкой врезавшейся в город, загорелась длинная цепь огней. На фоне черного неба вывеска «Каприза» засверкала ярко-голубым светом.
На экране телевизора двое влюбленных бегали друг за другом по берегу моря, а бархатистый голос диктора рекламировал фруктовые соки.
— Спать пора, — сказала синьора Табуссо с порога кухни. Она зажгла свет и посмотрела на сестру. — А ты уж не гуляй больше по ночам, слышишь?
На противоположной стороне долины, еще ближе к автостраде, виноградник «Друлария» и фасад старинного дома, утопавшего в тени огромных конских каштанов, безуспешно пытались укрыться от бесчисленных городских огней. Синьор Кампи-старший, не вставая, слегка повернул белое садовое кресло так, чтобы не видна была вывеска «Каприза», освещавшая сад слева. Но теперь назойливо лезли в глаза три другие светящиеся вывески, две красные и одна зеленая, не менее аляповатые.
— Днем смог, ночью эта иллюминация, — сказал синьор Кампи. — Зрелище поистине великолепное!
Его жена невозмутимо отпила глоток виски.
— Знаешь, Монно решили продать свою виллу, — проронила она. — Я встретила Елену.
— Ах так! Теперь рядом будет еще одна махина с теннисным кортом и бассейном… Впрочем, все, что можно, здесь уже испоганили.
Из пяти больших частных садов, которые окружали его виллу, не осталось теперь ни одного. На месте кедров, буков и вековых вязов высились утопающие в роскоши безобразные домища.
— Кончится тем, что и я продам «Друларию», — со вздохом сказал синьор Кампи.
Его семья владела виллой уже сто двадцать восемь лет.
Синьора Кампи только и мечтала, что наступит наконец этот день — день продажи… Слуги долго не выдерживали «сельскую жизнь». Все рано или поздно просили отпустить их в город, где жить весело и удобно. Так дальше продолжаться не могло. Но перед мужем лучше притвориться, будто продажа виллы ее безмерно огорчит.
— Конечно, жаль будет расставаться со всем этим. — Она обвела рукой строй конских каштанов, широкую террасу, заставленную цветами, аллеи и тропинки, ведущие к воротам сада.
— Да, жаль, — подтвердил синьор Кампи, окутанный голубым облаком табачного дыма. — Но холм превратился в городскую окраину.
Его жена с полминуты молчала.
— Кто знает, — промолвила она наконец, — может, через каких-нибудь пять тысяч лет археологи не найдут никакой разницы между руинами нашей виллы и народных домов. От всего останутся одни обломки.
— Золотые слова, — с сарказмом произнес синьор Кампи. — Вот если бы еще и коммунисты это поняли, нам бы жилось куда спокойнее.
Синьора подняла с земли горсть камушков, раздвинула пальцы, и камушки посыпались сквозь них, словно зыбучий песок.
Сидя на скамье у самой реки, землемер Баукьеро смотрел сквозь влажную пелену вечернего тумана на расплющенные полутьмой холмы. Противоположный берег сверкал огнями, и в воде отражались яркие разноцветные полосы от светящихся вывесок ресторанов, танцевальных площадок, кафе. Но землемер Баукьеро ничего не видел. Он сидел и с болью думал о своей непростительной ошибке.
Инженер Фонтана, который пил в это время кофе в гостиной супругов Дозио, тоже думал о непростительной ошибке, допущенной им три минуты назад. Правда, у него были смягчающие вину обстоятельства. Когда речь зашла о сельских ресторанах на холмах и о том, сколь они вредны для больных гастритом, он шутливо упрекнул Витторио: