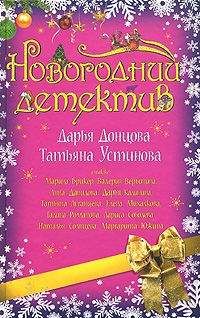Полина Дашкова - Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
Председатель Совета народных комиссаров жил в бывшем здании Сената, на третьем этаже. Пока поднимались по лестнице, Михаил Владимирович вдруг вспомнил газетную сводку, где сообщалось, что тяжело раненный вождь отказался от помощи и до квартиры шел самостоятельно.
В прихожей их встретила неопрятная старуха. Седые жидкие пряди выбились из-под гребенки. Вязаная кофта, темная бесформенная юбка висели на ней мешком.
Она мрачно представилась:
– Крупская.
Пожала руку. Кисть у нее была пухлая, влажная, рука заметно дрожала. Вглядевшись в отечное мятое лицо, Михаил Владимирович понял, что не так уж она и стара. Ей не больше пятидесяти, но у нее базедова болезнь в тяжелой форме. Отеки, одышка, сильное пучеглазие, потливость.
– Владимир Ильич ждет вас.
Втроем они вошли в чистую, аскетически скромную комнату, которая служила и спальней, и кабинетом. Окно выходило на Арсенал. У окна стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, лампа со стеклянным зеленым абажуром, бумаги, пустой стакан на блюдечке.
На узкой койке полулежал маленький человек с большой круглой головой.
– Профессор Свешников Михаил Владимирович! – воскликнул он картаво, бодро и радостно. – Здравствуйте, мое почтение. Федор, что ты застыл в дверях? Иди, побудь с Надеждой Константиновной, видишь, она себя неважно чувствует. А мы тут с профессором посекретничаем. Садитесь, батенька, в ногах правды нет.
Михаил Владимирович сдержанно поклонился, шагнул к койке, пожал протянутую руку, стараясь не думать, что, возможно, именно эта короткопалая рука меньше двух месяцев назад подписала приказ о расстреле царской семьи.
«Нет. Слухи, слухи. Если бы говорили только о государе, еще можно было бы поверить, но жену, детей, чудесных трогательных девочек, больного, обреченного мальчика… Зачем?»
Окно было приоткрыто, и странный, жирный запах гари все не давал Михаилу Владимировичу покоя. Впрочем, перед ним был раненый, он нуждался в медицинской помощи. Казалось немного странным, что рядом нет ни сиделки, ни фельдшера. Левая рука в гипсе. Бинт на шее намотан кое-как.
«Для осмотра надо хотя бы вымыть руки, халата нет, инструментов никаких, только мой стетоскоп. Или здесь должны дать все необходимое? Где Федор? Почему он ничего не объяснил?»
– Коллеги ваши, Пироговское общество, бастовать надумали. Изволите ли видеть, недовольны господа доктора нашей властью. А вы, если не ошибаюсь, забастовку не поддержали?
– Кто-то должен лечить больных. Правда, лечить стало нечем. Коек не хватает. Бинтов нет, лекарств нет. Дистрофия. Тиф, – быстро проговорил Михаил Владимирович и встретил холодный внимательный взгляд.
«Зачем я это ему рассказываю? Разве он сам не знает, что во всей стране голод и тиф? Федор шептал мне, пока шли по лестнице, чтобы никаких разговоров о политике, ни жалоб, ни просьб, слишком опасно. Списки. Что за списки? Странно, как он хорошо держится. При таких ранениях ему должно быть больно, нужны большие дозы морфия, а от него человек дуреет, становится сонным, вялым. Почему его сразу не отвезли в больницу? Почему забинтовали так небрежно?»
– Вы как врач должны знать, сколько крови и грязи сопровождает рождение ребенка. А у нас рождается новый мир, – произнес вождь с легким раздражением в голосе.
– При рождении ребенка необходима безукоризненная чистота рук. Вы хотите, чтобы я осмотрел раны?
– Раны? Пустяки. Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет. Голова у меня болит. Очень болит голова. И, знаете ли, бессонница замучила. Давно, еще в Швейцарии, я обратился к одному медицинскому светиле по поводу болезни желудка, а он сказал, что это мозг.
Последние слова Ленин произнес по-французски: «C’ect le cerveau». И похлопал себя по блестящему, как будто лакированному, черепу.
Подробно, грамотно вождь стал излагать историю своих недугов, визитов к врачам швейцарским, немецким, английским. Он изумительно точно живописал симптомы. Он помнил названия всех лекарств, которые ему прописывали, произносил их по-латыни. Михаил Владимирович подумал, что перед ним идеальный пациент. Аккуратный, исполнительный педант, очень серьезно и ответственно относящийся к своему здоровью.
– А в Лондоне случился такой анекдот. – Вождь вдруг оскалился и начал трястись в странном, беззвучном смехе. – Я покрылся сыпью, весьма неприятной, по всему телу. Надо было сразу к врачу, но английские врачи – дорогое удовольствие. За короткий визит берут гинею. Товарищ Крупская решила сэкономить. Раздобыла медицинский справочник, поставила мне диагноз: стригущий лишай и намазала меня йодом с ног до головы. Я, знаете ли, чуть не помер, пока ехали из Лондона в Женеву. Потом оказалось – никакой не лишай. Воспаление кончиков нервов, грудных и спинных. Вот с тех пор я зарекся лечиться у большевиков. Большевики умеют выступать на митингах и делать революцию, а лечить не могут, ни черта не могут. Разве что пулевые ранения, – он ткнул пальцем в свою забинтованную шею и опять засмеялся, на этот раз смех больше походил на рыдания, на истерику. Лицо налилось кровью, оскал стал мучительным, страшным. Он весь затрясся, задергался.
«Нет ли тут эпилепсии? – подумал Михаил Владимирович. – Впрочем, не похоже. Истерическая психопатия, вот что!»
Он взял руку вождя, посчитал пульс, проверил зрачки, заметил, что радужка странного цвета, красноватая, с желтым отливом, как у лемура.
– Успокойтесь. Нельзя так нервничать. Вы слышите меня?
Ленин услышал. Он успокоился. Да, он был идеальным пациентом. Послушно закрывал глаза и искал пальцем кончик носа, задерживал дыхание, дышал глубоко. Открыл рот, сказал «А-а!», показал горло и толстый, в белом налете, язык.
«Несварение. Слабая печень. Хронические запоры», – машинально отметил про себя профессор и продолжил осмотр.
Вождь свободно двигал челюстью и легко вертел головой, не морщась от боли в раненой шее. Он вытянул здоровую правую руку вперед, пальцы мелко дрожали.
Профессор Свешников старался не задавать вопросов, даже мысленно, самому себе. Он разговаривал с вождем так же, как с любым другим больным.
– Ну поняли что-нибудь? Говорите! – Вождь оскалился и погрозил пальцем. – Только, чур, не врать, не дипломатничать!
– У вас нарушено мозговое кровообращение. Плохие сосуды. Возможно, атеросклероз. Для более точного диагноза нужен анализ крови и спинномозговой жидкости.
– Мозг. Конечно, мозг. А они болтают про умственное переутомление. Сколько мне осталось, как вам кажется?
– Я не предсказатель. Я хирург.
– Хирург. Ну а что думаете о раннем старении? Знаете, сколько мне лет?
– Вам нет пятидесяти.
– Правильно. Сорок восемь. Но я с тридцати старик. Я лысеть стал рано. В детстве был кудряв, как ангелок. А вы ведь старше меня.
– Да. Я вас старше на семь лет.
– Вот! А выглядите значительно лучше. Вы седой, но морщин нет, глаза ясные, спину держите прямо, руки крепкие, не дрожат. Ну, признавайтесь, испытали на себе свое таинственное изобретение? Испытали потихоньку, и молчок, рот на замок. – Он опять погрозил пальцем, прищурил глаз. – Чур, не врать!
«Сегодня же сожгу лиловую тетрадь в печке, – подумал Михаил Владимирович, – сожгу, и кончено. Пусть все записи отправляются в небытие, вслед за подопытными зверьками. Нет никакой тайны, никакого бессмертия. Вокруг только могилы, и с каждым часом их все больше».
– Нет никакого изобретения, – произнес профессор, спокойно глядя в прищуренные глаза вождя. – Есть ряд опытов на крысах, более или менее удачных. На самом себе, и вообще на людях, я опытов не ставил и не собираюсь.
– Почему? – спросил вождь и поднял широкие темные брови, изображая ироническое удивление.
– Биология для меня всего лишь хобби. Я опытами занимаюсь на досуге. Да и в любом случае сначала надо разобраться с крысами.
– С кры-ысами, – на высокой ноте, по-детски передразнивая профессора, повторил вождь и опять засмеялся беззвучным смехом. – Товарищ Агапкин поведал мне, что для продолжения опытов вам необходимо душевное спокойствие, чтобы дети и внук младенец были рядышком, живы-здоровы. Товарищ Агапкин прав?
– Прав. Товарищ Агапкин прав, – ответил Михаил Владимирович и почувствовал, как струйка ледяного пота побежала между лопатками.
– Слушайте, а что, если заменить крыс людьми? – весело спросил вождь. – Неужели ни разу не пробовали? Это же архилюбопытно! Людей вон как много, а крыс, говорят, уж почти не осталось, скоро всех съедят.
Михаил Владимирович не успел ответить. Послышались шум, топот, женский голос отчетливо крикнул:
– Как вы могли?
Дверь распахнулась. На пороге стояла Крупская. Лицо ее было красным и тряслось, как вишневое желе. За спиной у нее маячила фигура крупного мужчины с бородкой.
– Надежда Константиновна, умоляю, стойте! Нельзя!
Но она оттолкнула мужчину, шагнула в комнату и захлопнула дверь у него перед носом.