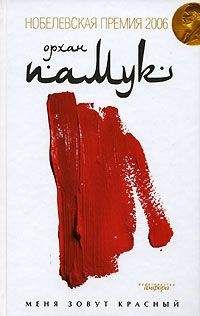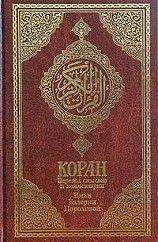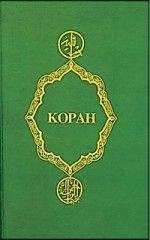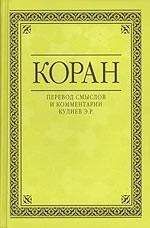Орхан Памук - Имя мне – Красный
Чего только не увидел я по дороге через все семь небес: дивные, не похожие друг на друга города; болота и облака, кишащие странными созданиями, мириадами насекомых и птиц… Если начать подробно рассказывать, никогда не закончишь. Перед тем как подняться на очередное небо, тот ангел, что был впереди, стучал в дверь и на вопрос: «Кто идет?» – называл мое полное имя и все мои звания, а в конце прибавлял: «Верный раб всемогущего Аллаха!» При этих словах из глаз моих катились слезы радости, хотя я и знал, что до Судного дня, когда решится, кому идти в рай, а кому – в ад, могут пройти еще тысячи лет.
Знал, потому что, за небольшими исключениями, все совершалось так, как описывали происходящее после смерти Газали, Ибн аль-Кайим и другие мудрецы. Вопросы, оставшиеся в книгах без ответа, и темные тайны, о которых сказано, что узнать их может только сам умерший, освещались сейчас тысячами лучей разноцветного света.
Как мне рассказать о цветах, которые я видел во время этого дивного вознесения? Я убедился, что из цветов сотворен весь мир и все сущее в нем есть цвет. Я понял, что сила, отделяющая меня от всего остального мира, состоит из цветов, но и другая сила, привязывающая меня к миру, – тоже цвет. Взгляду моему открывались оранжевые небеса, прекрасные тела цвета зеленых листьев, кофейно-коричневые яйца, небесно-лазурные сказочные кони. Все вокруг было как в легендах и на рисунках, которые я так любил всю свою жизнь, и потому я, с одной стороны, смотрел окрест с изумлением и восторгом, ибо видел все это впервые, а с другой – словно бы созерцал собственные воспоминания. Я осознал, что моя память – часть мироздания, а все мироздание, в свою очередь, рано или поздно станет моим опытом, а потом и памятью, – ибо передо мной лежит бесконечное время. Я понял, почему мне стало так покойно и привольно среди празднества красок, словно я стащил с себя сковывающую движения тесную рубашку: отныне для меня не было запретов и ограничений, я мог быть всегда и везде.
Едва уразумев это, я с радостью и страхом почувствовал, что нахожусь совсем рядом с Аллахом.
В мгновение ока все вокруг стало ярко-красным. Красота этого цвета обнимала меня и весь мир. Чем меньше становилось расстояние, отделяющее меня от Него, тем сильнее хотелось плакать от радости. Мне вдруг сделалось стыдно, что я явился к Нему неподготовленным и в таком ужасном виде, окровавленный. Но память подсказывала, что́ написано в книгах о смерти: Он сам послал за мной Азраила и других ангелов.
Неужели мне предстоит увидеть Его? Казалось, я вот-вот задохнусь от волнения.
Таким дивным и прекрасным был этот красный цвет, объявший весь мир и вобравший в себя все сущее, что от сознания сопричастности ему и близости к Аллаху слезы еще быстрее потекли из моих глаз.
Однако я понял, что ближе меня не допустят. Я знал, что Он вопрошает ангелов обо мне, а те меня хвалят и Он любит меня, своего верного раба, который следует Его заповедям и не нарушает Его запретов.
Но нарастающую во мне радость внезапно отравил страх. Мне не терпелось скорее его развеять, и я заговорил виноватым голосом:
– В последние двадцать лет своей жизни я прельстился рисунками неверных, которые видел в Венеции. Одно время даже хотел, чтобы и меня нарисовали в этой манере, но испугался этого. А потом поручил художникам сделать рисунки, на которых методами неверных изображен Твой мир, Твои рабы и Твоя тень на земле – султан.
Я не услышал Его голоса, но Его слова возникли в моей памяти:
– Мне принадлежат и Восток, и Запад.
От волнения я не смог удержаться и спросил:
– Хорошо, а в чем смысл всего этого… всего Твоего мира?
Во мне прозвучало короткое слово, но я не разобрал, какое точно. Может быть, «сыр»[92], а может быть – «сэв»[93]. Ни в том, ни в другом, впрочем, я не уверен.
Ангелы снова приблизились, и я догадался, что участь моя решена на этом высоком небе, однако теперь мне предстоит провести тысячи, десятки тысяч лет в Месте Ожидания, имя которому – Барзах, где, как и другие души умерших, я буду пребывать до Судного дня, до нового решения, теперь уже окончательного. Мне было радостно оттого, что все происходит так, как описано в книгах. Из книг же я помнил, что мне нужно будет снова сойти на землю и соединиться со своим телом на время похорон.
Однако я сразу понял, что «соединиться с телом» – это, хвала Аллаху, не более чем иносказание. Намаз уже прочитали, и теперь собравшиеся на похороны люди шли за носилками с моим телом на маленькое кладбище Тепеджик, недалеко от мечети. Я гордился, что, несмотря на всю свою скорбь, они шествуют чинно и степенно. С той высоты, откуда я наблюдал шествие, оно выглядело тонкой веревочкой.
Где же я находился? В хадисах приводится следующее изречение Пророка: «Душа правоверного – это птица, вкушающая плоды райских дерев». Из этих слов следует, что после смерти душа взмывает в небо, однако, по мнению Ибн Абд аль-Бара, их не нужно понимать в том смысле, что душа приобретает облик птицы, тем более буквально превращается в птицу; как справедливо замечает Ибн аль-Кайим, это означает, что после смерти душа пребывает там, где летают птицы. И я могу подтвердить его догадку. Венецианские мастера, любители перспективы, сказали бы, что у меня был замечательный угол обзора.
Со своего места я мог, словно на рисунке, одновременно увидеть похоронную процессию, веревочкой втягивающуюся на кладбище, и, скажем, небольшую шхуну, весело плывущую под раздутыми ветром парусами по Золотому Рогу в сторону Дворцового мыса. Поскольку я смотрел на мир с минаретной высоты, он представлялся мне чудесной книгой: я переворачиваю страницу за страницей и рассматриваю рисунки.
Однако я видел больше, чем увидел бы человек, у которого душа еще не рассталась с телом, окажись он в такой же выси. Я видел, как на другом берегу Босфора, на краю Ускюдара, дети играют в чехарду среди деревьев и могильных камней; как двенадцать лет и три месяца назад мы с венецианским послом плывем по Босфору из выделенного ему ялы на прием к садразаму Келю Рагыпу-паше на четырнадцативесельной лодке реис-уль-кюттаба[94]; как толстая женщина на новом базаре в Ланге прижимает к себе огромный кочан капусты, словно младенца, которому собирается дать грудь; как я радуюсь, узнав, что умер чавуш дивана Рамазан-эфенди, а на его должность назначат меня; как я сижу на руках у бабушки и смотрю на красные рубашки, которые мама развешивает после стирки во дворе; как у покойной матери Шекюре начинаются схватки, а я, забыв, где находится дом повитухи, бегаю по далеким кварталам, пытаясь его отыскать. Я видел, где лежит мой красный пояс, пропавший сорок с лишним лет назад (оказывается, его Васфи украл); видел очень далекий дивный сад, который однажды, двадцать лет назад, приснился мне во сне, – думаю, это и есть рай, в который, надеюсь, когда-нибудь впустит меня Аллах; видел головы, носы и уши мятежников из крепости Гори, которые прислал в Стамбул наместник Грузии Али-бей, – и одновременно с этим наблюдал, как моя милая Шекюре провожает возвращающихся по домам женщин, остается одна на дворе и плачет обо мне, глядя на очаг.
Книги и ученые старых времен говорят, что у души четыре пристанища: материнская утроба; мир; Место Ожидания, в котором я сейчас пребываю, и рай или ад, в который душа попадет после Судного дня.
Из Места Ожидания прошедшее и настоящее видятся одновременно, и погруженная в воспоминания душа не стеснена пространственными ограничениями. Только выйдя из застенков пространства и времени, понимаешь, какая тесная рубашка – жизнь. Как жаль, что никто, прежде чем умрет, не понимает, что если на том свете воистину счастлива только лишенная тела душа, то на этом свете – лишенное души тело. Поэтому, с грустью наблюдая, как во время моих замечательных похорон понапрасну плачет и убивается по мне милая Шекюре, я молил Всевышнего, чтобы Он даровал нам возможность быть в раю душами без тела, а на земле – телами без души.
38. Я, мастер Осман
Вы, конечно, знаете, как неприятны старики, посвятившие всю свою жизнь искусству. Они всех ругают. Они долговязы, худы и костлявы. Им хочется, чтобы короткий остаток их дней был повторением всей их длинной жизни. Они легко впадают в гнев и всегда на все ворчат. Они всеми понукают и всем опостылели. Им никто и ничто не нравится. Я – один из них.
Таким (только не столь гневливым) был в свои восемьдесят великий мастер Нуруллах Селим Челеби, рядом с которым мне выпала честь работать, когда я еще был шестнадцатилетним подмастерьем. Таким (но не столь худым и высоким) был последний великий мастер Сары Али, которого мы похоронили тридцать лет назад. В свое время вслед каждому из этих непревзойденных мастеров, возглавлявших дворцовую книжную мастерскую, летели стрелы осуждения; мне известно, что теперь эти стрелы метят в мою спину. Поэтому я хочу, чтобы вы знали: некоторые расхожие обвинения, нам предъявляемые, не имеют под собой никаких оснований.