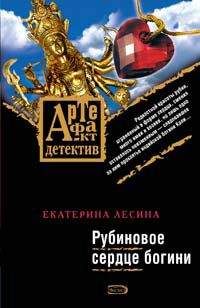Екатерина Лесина - Серп языческой богини
– Ты мог ее просто ранить. – Саломея стояла, обнимая себя, и дрожала не то от страха, не то от холода, не то от того и другого разом.
– Вышло так, как вышло.
– Знаешь, – задумчиво произнесла она, – мне хочется тебя пнуть.
– За что?
– За все! За… за сокровища эти! За Таську! За Вику! Если бы не ты… – Саломея встала напротив солнца. И не разглядеть лица, вообще ничего не разглядеть – черный силуэт на сине-желтом фоне.
– Она нашла бы другой повод. Ей хотелось убивать. Вот и вся причина.
– А тебе хочется убивать?
– Мне – нет. Пока.
И Саломея устала стоять. Она села рядом, хотя и в стороне. Было немного обидно, но самую малость.
– Тебя посадят. Родион…
– Попытается со мной договориться. И с тобой. Если, конечно, не помрет там. Но думаю, что не помрет. Он везучий. Я – нет. Его женушка мертва.
– И что это меняет?
– Все. – Если повернуть голову влево, то можно разглядеть высокие ботинки с исцарапанными носами и такие же исцарапанные руки с бледными пятнами мертвой кожи. – Он реалист.
Далматов оказался прав.
Ждать пришлось долго. Солнце потянулось к воде, а небо сменило наряды на алые, яркие. Холод, принесенный из пещеры, сковал руки и мысли, и Саломея вяло подумала, что еще немного и она заснет. А проснется, быть может, в собственной квартире, удивляясь такому странному яркому сновидению.
Родион появился на поверхности и сказал:
– Я думал, что вы свалили.
– Опыт показывает, что неосмотрительно оставлять нерешенные проблемы.
Далматов поднялся.
А они с Родионом чем-то похожи, и от этого неприятно. Сходство не во внешности, скорее в позе и манере держаться. Во взгляде. В тоне.
– Разумно! – Родион сунул руки в карманы. – Я могу тебя посадить. За убийство.
– Самооборона. Есть свидетель.
– Не всякому свидетелю поверят, – взгляд Родиона скользнул по Саломее. – Но предлагаю сделку.
Пауза, недолгая, правда.
– Это дело закроют. Несчастный случай…
Со смертельным исходом. Но Родиону поверят. Наверное, он точно знает, как решать подобные проблемы.
– Вы забываете о том, что были здесь. Я забываю о вашем существовании.
– Идет, – ответил Далматов. – Один нюанс.
Он указал на дыру.
– Дело, конечно, твое. Но некоторые вещи лучше не трогать. Мертвое – мертвецам.
Родион ничего не ответил.
Лодка стояла у причала. Старая, выкрашенная некогда в желтый, она поблекла за зиму. Но на лодке имелись фонарь и мотор. Воду взбивали в пену. Таял в кильватере снег.
И Саломея до рези в глазах смотрела на остров. А потом его не стало.
Она еще помнила, как лодка вошла в берег, мягко, словно нож в масло. И Далматов подал руку, помогая выбраться. Кажется, он что-то говорил, а Саломея отвечала, но невпопад.
Была промерзшая машина и дорога с колдобинами.
Салон наполнялся теплом. Тепло проникало в руки и плавило кровь. Когда стало невыносимо жарко, Саломея попыталась снять куртку, но оказалось, что шевелиться тяжело.
Хотелось спать.
Невыносимо хотелось спать. Саломея уговаривала себя потерпеть, но все-таки заснула.
Воздух дрожал от жара. Сиял медью самовар. Плавились куски меда в сотах, а вишневое варенье было прозрачно, как янтарь.
– …и между прочим, я предупреждала, что из этой затеи ничего не выйдет! – Бабушка разливала чай по фарфоровым чашкам любимого сервиза.
– Ну, все не так плохо.
Бумажным крылом порхал веер, отгоняя мух и пчел.
– И что же ты в нем хорошего разглядела?
– Здравствуй, бабушка! – Саломея хотела обнять ее, и маму тоже, и отца, который занял свое любимое место под старым фонарем и делал вид, что разговор ему не интересен, зато интересна газета. – Здравствуй, мама… папа… я вот, пришла.
– Вижу. – Бабушка поставила чашку на блюдце и, поправив очки, поинтересовалась: – Хотелось бы еще понять зачем.
– Просто. Соскучилась.
Веер замер. Зашелестела газета.
– Соскучилась она, – проворчала бабушка, рукой отгоняя особо назойливую пчелу. – И что с того?
– Ты не рада меня видеть?
Мама отвернулась. А папа отложил газету.
– Нет, – сказал он. – Еще не время. Возвращайся.
– Но я хочу…
– Возвращайся, – повторила бабушка. – И держись подальше от этого охламона. Он тебе не пара.
– Мама! Ты так же и про нас говорила! Пусть девочка сама решает…
– О да, она решит…
Загудели пчелы. И ветер, содрав белые лепестки, швырнул в лицо. Какие холодные. И острые. Не лепестки – снег. Попав на губы, снег тает, и Саломея глотает воду.
Жажда невыносима.
– Давай просыпайся. – Ее держат, не позволяя упасть, и поят снегом.
Далматов.
– Вот так. Приехали.
– Куда? – Саломея вцепляется в руку, пытаясь встать. Голова кружится. И по-прежнему хочется пить. А место ей не знакомо – трехэтажное длинное здание. Окна светятся, но здание все равно выглядит мрачным.
– В больницу.
– Я не хочу в больницу!
Ее не слушают. Никто никогда.
– Запоминай! – Далматов обнимает, не позволяя упасть, и тянет по дорожке, слишком узкой для двоих. – Мы ездили в лес. Кататься на лыжах. Единиться с природой и все такое. Не подрассчитали возможностей. И ты простыла…
Как ни странно, но ему поверили.
ОтголоскиПещеру нашла Лизавета. Вышла прогуляться и нашла. Так она говорила.
Не верили.
Лизавету недолюбливали. Она была кряжиста, курноса и хамовата, несмотря на то что воспитание имела. Более того, это самое воспитание, выделявшее Лизавету из прочих, позволяло ей хамить с какой-то особой, издевательской вежливостью. Она разговаривала спокойно, равнодушно даже, но меж тем каждое слово ее ранило.
– Вы удивительно близки к природе, – произнесла Лизавета, глядя на Маняшу с усмешкой.
Она бы сказала что-то еще, но на кухню высунулся завхоз, и Лизавета уплыла. О да, ходила она медленно, покачивая бедрами и вывязывая узоры тощими, что спицы, ногами.
Ноги болели в коленях, но Лизавета терпела эту боль, и, наверное, никто не подозревал о ее мучениях. А Маняша вот увидела, точнее учуяла, как говаривала бабка, которая тоже умудрялась людей слышать «вовнутрях». Конечно, бабкиного таланту Маняше Господь не дал, а саму бабку схоронили еще в двадцать девятом, аккурат незадолго до того, как всех в колхоз погнали… Маняша те времена помнила смутно, поскольку лет имела мало, а сознательности вовсе никакой. Но, глядя на Лизавету, вдруг оживали перед глазами давным-давно забытые картины. Небеленая печка. Пучки трав, висящие под притолокой. Старая ступа с железным пестиком. И ступа, и пестик натерты бабкиными руками до блеска.
К бабке шли люди, несли беды. И та слушала, то прижимаясь ухом к чьему-то мягкому животу, то щупая заскорузлыми пальцами колени, то приминая синеватые голяшки… как у Лизаветы. Бабка прогнала бы хворь. А Маняша не умеет. И когда б умела, не стала б помогать Лизавете. Злая она.
И врунья. Куда ей гулять с больными ногами? А она к самому берегу поперлась и потом еще на гору полезла, куда все только завтра идти собирались. Отчего? Оттого, что желала не в коллективе, а самолично найти сокровище.
Тут Маняше подумалось, что родители Лизаветины, верно, не из простых были. И, может статься, даже врагами народа. А если так, то благонадежности в Лизавете ни на грош. Заявить?
Кому?
Кто станет слушать Маняшу? Она чужая среди этих людей, которым одно интересно – в земле ковыряться. А еще бабка заповедала Калмин камень стороной обходить. Она-то, чай, не дурой была, но стоило Маняше про бабку сказать, как эти на смех подняли. Тогда-то Лизавета и сказала про близость к природе, и еще словечко добавила, длинное, непонятное и оттого обидное.
Обида запала в душу и вынудила приглядывать за Лизаветой. Просто, на всякий случай.
Так как получилось, что Лизавета пошла «погулять»?
И пещерку нашла?
– Я споткнулась. Упала, – Лизавета накрыла ладонью колени, красные от ссадин. И все тотчас закивали, мол, сочувствуют. – Гляжу, странное дело – дерево точно под землю уходит. А оно в дыре проросло.
Тоненькая березка лежала с вывернутыми корнями. Маняша березку жалела, но жалость не показывала – не поймут. Разве что… был один человек, который относился к Маняше иначе, нежели прочие. И хороший, к слову, человек. Умный. За такого бы замуж выйти…
– Там явно пещера. – Лизавета стояла над дырою, подперев кулаками бока, демонстрируя всем своим видом собственнические настроения. – Высока вероятность, что мы имеем дело с тем самым капищем, о котором упоминает…
Все заспорили, загалдели, что вороны над дохлой кошкой. И только завхоз, подобравшись к Лизавете, вздохнул:
– Теперь надолго застрянем, – сказал он, вытирая пот со лба. Лето грозилось жарой. И близость озера нисколько не спасала от духоты. Но чудилось – заползает вовнутрь холодок.