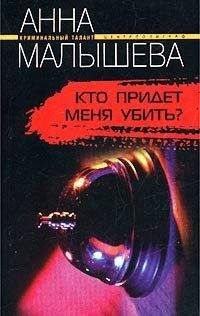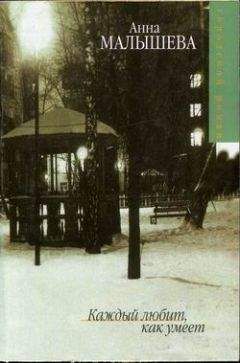Анна Малышева - Суфлер
В памяти мелькали имена, лица, наполовину стертые адреса. Друзья у Александры были повсюду, по всему миру, ей бы обрадовались в самых разных уголках земли. Ее приняли бы так же бескорыстно, как она сама всегда принимала гостей, являвшихся без предупреждения. Весь мир мог стать ей убежищем… И в то же время женщина понимала, что бежать некуда. Где бы она ни скрылась, ей не уйти от вопросов, терзавших ее.
«Что с Ритой? Как умер адвокат? Имела ли она отношение к этому и куда, куда делось его тело в течение какого-то часа?!»
Остановившись наконец у подъезда своего дома, Александра малодушно порылась в карманах. Она надеялась, что пачка сигарет окажется пустой. Хороший повод вернуться на угол переулка, зайти в магазин, купить новую. Потом… Потом будет видно, но можно пройтись к метро… Осмелившись, рвануть на вокзал, в аэропорт… Что ее удерживало в городе? Она могла уехать в любой миг, скрыться без следа, как скрылась подруга.
Пачка оказалась почти полной. Сглотнув слюну, у которой был едкий вкус страха, Александра вошла в подъезд и принялась подниматься по лестнице. Переставляя отяжелевшие ноги, будто волоча надоевший груз, она доплелась до площадки второго этажа. На дверь бывшей мастерской Рустама женщина старалась не смотреть, лишь бросила косой взгляд, словно от этого ожидаемая картина могла стать привлекательнее. Но дверь выглядела невинно. Печатей на ней не появилось, она была все так же плотно прикрыта, как оставила ее Александра. Проверить, заперто ли и что происходит внутри, художница не решилась.
На третьем этаже она вновь остановилась. Внезапно пробившийся сквозь снеговые тучи солнечный луч, отфильтрованный сквозь мутное стекло окна на площадке, скользнул по двери мастерской Стаса, по чисто протертой дерматиновой обивке. За дверью ничего не было слышно.
«Стас пропадает в притоне. Но Марья Семеновна! До сих пор ни звука… Не случилось ли чего и с ней? Она свидетель… Я тоже, впрочем. Кому-то мы можем показаться подозрительными».
Борясь с желанием убежать, она постучала несколько раз, но никто не ответил. Подняв голову, Александра прислушалась к тишине верхних этажей. «Я одна во всем доме. И милиции тут, похоже, не было. – Художница наблюдала за роением тонкой пыли в солнечном луче, пытаясь себя убедить, что ее чрезвычайно занимают матовые эффекты, создаваемые игрой света. – Марья Семеновна могла сбежать. Она-то умнее меня, жизнь ее больнее била. Ну вот и моя очередь настала. Куда… куда же мне бежать?»
Пойти к родителям и рассказать хотя бы часть своих злоключений было немыслимо. Жаловаться друзьям, пусть и многочисленным, искренне любящим ее, Александра не привыкла. Вышло так, что всю жизнь она ни с кем не делила своих тревог, редко кому ей удавалось открыться, чтобы вскоре не пожалеть об этом. Близкими ей становились такие же закрытые, сдержанные люди, как она сама. Например, Эрдель.
Художница вновь принялась подниматься, прислушиваясь к каждому шороху, скрипу, пытаясь вычислить чье-нибудь присутствие наверху. Но там никого не было, в этом она готова была поклясться, миновав четвертый этаж и ступив на железную лестницу, ведущую к мансарде. Александра за много лет выучила наизусть все шумы этого дома, все особенности его тишины. Она могла безошибочно сказать, кто из обитателей в данный момент наличествует или отсутствует в мастерских. Так, члены большой семьи, не видя, многое узнают друг о друге по случайно донесшемуся звуку. Скрипнула ли кровать, с шумом ли отодвинули стул, стукнула ли дверца шкафа, захлопнулась ли дверь, зашумел ли вскипающий чайник…
Вымерший дом покинули его последние обитатели.
Подойдя к своей двери, Александра отперла замок и с минуту стояла на пороге, оглядывая мастерскую. Ничего не изменилось, все осталось так, как художница бросила, собираясь впопыхах. И все же она едва решилась войти.
Каждый шаг по скрипящим, выгнутым изнутри половицам причинял ей боль, словно она топтала свое прошлое, навсегда с ним прощаясь. Навсегда – решение, принятое подсознательно, крепло, постепенно оформляясь в слова. «Что я потеряю, если уйду отсюда? Дому скоро конец. И здесь стало опасно. Прежде я умудрялась не замечать опасности, хотя мне много раз говорили, как рискованно женщине жить одной, в заброшенном доме, на чердаке, в компании только приблудной кошки! Я уеду. Не знаю куда; куда хватит денег. А не хватит, так займу!»
Она увидела на столе миску с ватными комками, которыми оттирала ночью лак с картины «Болдини», и сжала губы до того крепко, что они занемели. «Так ошибиться! Подобная ошибка навсегда хоронит имя реставратора, его честь, репутацию! Хорош и Эрдель! Всего-навсего предложил бежать из города, хотя, зная меня, понимал, что я не из тех людей, которые боятся темноты! Я люблю зажигать свет и освещать темные углы! Но он опасался предать старинную подругу… Что ж, ничего удивительного…»
Александру терзали ревность, досада, запоздалое раскаяние оттого, что она не сумела должным образом выразить трем оставленным ею мужчинам свое возмущение. «Вовремя говорить и вовремя молчать! Боже, когда я этому научусь!»
Решение уехать без оглядки все крепло. Она уедет, почему же нет! Соберет самые необходимые вещи, займет денег у друзей, навестит родителей и простится с ними, отказавшись от совместного празднования Нового года. Скажет, что у нее срочный заказ. Аукцион, о котором она забыла. Встреча с важным клиентом. Произнесет все то, что говорила множество раз. Она уедет сегодня же и никогда не будет пытаться что-либо узнать о судьбе убитого адвоката, о Маргарите, о ее дочери, живущей в Дании. «В сорок лет пора начать заниматься своими делами!»
Александра отыскала сумку, с которой обычно путешествовала, – потрепанную, но еще крепкую, вмещающую самые негабаритные предметы. Туда можно было уложить все, что потребуется: небольшую картину, тубу с гравюрами, коробки, свертки… Личным вещам женщина почти не уделяла внимания и, отправляясь в Европу, возила с собой только пару смен белья, зубную щетку, записные книжки, запасной свитер и зонтик. Прочее одалживали друзья, так же, как она сама снабжала их всем необходимым.
Она ощущала необыкновенный эмоциональный подъем, сменивший тошный страх, душивший ее на подходах к дому. Ей захотелось петь, и Александра вполголоса исполнила начало «Заздравной арии» из «Травиаты»… Но тут же умолкла, вспомнив о завтрашних похоронах Воронова. Дальнейшие сборы проходили в молчании. В тишине мастерской, усугубляемой безмолвием опустевшего дома, женщина слышала лишь свое прерывистое дыхание, и ей вновь становилось страшно.
Подойдя напоследок к письменному столу, она рванула на себя верхний переполненный ящик.
Было от чего прийти в отчаяние! Александра забрала бы все: тетради, блокноты, недочитанные книги, журналы, присланные друзьями из Европы и Америки и еще не просмотренные. Но это было невозможно, немыслимо – увезти содержимое даже одного ящика. А сколько таких завалов хоронилось по углам мастерской! Чего стоил бесценный архив ее покойной подруги Альбины, полный реестр сделок, заключенных с московскими коллекционерами и продавцами антиквариата за последние тридцать лет! Неподъемный старый чемодан с потертыми латунными углами, набитый тетрадями и блокнотами, где фиксировалась каждая совершенная сделка, все вкусы, пристрастия и даже пороки клиентов, – это ли было не сокровище?!
«Навсегда!» – повторяла про себя женщина и сама не верила в это. Вон в том углу девять лет назад она нашла тело умершего мужа. Была весна… Вот здесь она долгие часы просиживала за столом, переводя статьи, кропая монографии, изучая каталоги, строя планы, большая часть которых не осуществилась. Здесь – Александра обернулась к мольберту – давно все кончено и похоронено. «Потому что, – сказал ей не кто иной, как Эрдель, – у вас слишком хороший вкус, Саша, чтобы обольщаться на свой счет!» Все было, все прошло… И ничего не осталось. Стоит только закрыть дверь, уходя в никуда, и вся прежняя жизнь обратится в прах.
Ею овладел приступ малодушия. Отчаянно захотелось остаться, вновь втиснуться в старую жизнь, в это неприютное гнездо, со всеми его недостатками. Испытать прежние страхи. Вернуться к вопросам, на которые не будет ответа.
Борясь с собой, она перебирала бумаги в ящике стола. Когда ей под руку попалась записка Эрделя, художница положила ее в карман куртки, как талисман на удачу, и решила читать эти слова в минуты сомнений.
Александра уже хотела за двинуть ящик, когда заметила лежавший с краю лиловатый ветхий листок паспарту с наклеенной на него фотографией. Женщина, нахмурившись, взяла картон в руки и, рассмотрев, убедилась, что видит фотографию впервые. Зрительная память, профессионально цепкая, годами хранящая ничтожные мелочи, почти никогда ее не подводила. Объяснить появление этого снимка в ящике она не могла. И все же он там был.
Черно-белый снимок, сделанный давным-давно, в начале прошлого века, – так она решила. На нем был запечатлен предмет старинного парадного столового сервиза – во всяком случае, так художница его классифицировала. Собака, поджарая, из породы левреток, стояла, низко опустив голову, словно вынюхивая что-то между передними лапами. Поза животного, которое изготовилось выкапывать нечто съедобное из земли, была передана необычайно живо и достоверно. Спина собаки, как догадалась Александра, представляла собой полое вместилище для съемного соусника с крышкой, стилизованной под попонку. На попонке ясно был виден вычеканенный герб.