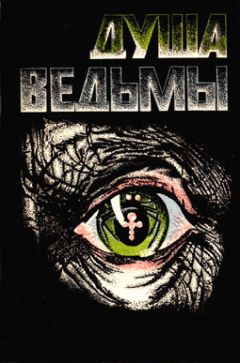Екатерина Лесина - Медальон льва и солнца
– Похудела, бедная моя. – Она гладит меня по голове и отчего-то краснеет, отводит глаза. – Плохо кормят?
– Нормально. – Мы сидим на лавочке, у самого забора. Отсюда корпуса не видно, точнее, только большое серое здание и блестки-окна, Галька, наверное, стоит, прижавшись носом к стеклу, смотрит. И Людка тоже, и Машка, и Женька с Юлькой… потом будут шепотом обсуждать и выспрашивать, о чем мы разговаривали.
И не поверят, что ни о чем.
С теткой разговаривать скучно, мы просто сидим.
– На вот, – тетка достала из сумки бидон. – Пюре и котлетки. Домашние. Для тебя жарила.
– Спасибо. – Я не люблю котлеты, но ем. А она смотрит. Смешная. Сегодня платок синий, а платье белое, нарядное, с блестящим пояском и золочеными пуговичками. Руки вот прежние, красные и некрасивые.
– Как учишься? – почему-то она всегда про учебу спрашивает. Разве это важно? Лучше бы про то, когда мне вернуться разрешат, сказала бы. Я очень хочу вернуться туда, на луг, к ромашковому морю, оно мне часто снится, но ведь сон – это не взаправду.
– Ты учись, Баська, учись. – Тетка снова проводит рукой по волосам, поправляет банты и опять вздыхает. – Выучишься – человеком станешь, может, даже медсестрой. Или учителкой вот.
Котлет много, они жирные и сытные, а пюре с подливкой, я и без того сытая, наедаюсь в три минуты, но продолжаю жевать, а тетка, глядя, только головой качает. Жалеет. А зачем жалеть? Пусть лучше приезжает чаще.
Дождавшись, пока я наемся (котлеты комом встают в горле), тетка протягивает коробку.
– На вот тебе.
Внутри будет зефир, она всегда зефир покупает, бело-розовый и нарядный, облаковый. С Галькой поделюсь, и с Людкой, и с остальными, выйдет по чуть-чуть, но зато честно.
В моей стране все-все делят по-честному.
– И вот еще, Берта, – тетка поднялась с лавки, отряхнула подол, и мне опять стало страшно. Она никогда не называла меня Бертой. – Ты уже большая, взрослая, шестой класс…
Коробку с зефиром сжимаю крепко-крепко. Глаза бы еще зажмурить, а не могу, гляжу снизу вверх, отсюда тетка большая, солидная, как памятник в райцентре.
– Больше приезжать я не смогу, Степан ругается. Да и за мамкой евоной пригляд нужен… ты уж пойми, как могли, так посодействовали твоему воспитанию. Но я о другом. Что Любка, сестра моя, померла, ты знаешь?
Знаю. Люба – это моя мама, это для нее я придумала страну, чтобы ей было где ждать, пока я не вырасту и не найду дорогу. А я найду когда-нибудь, обязательно.
– А вот про отца твоего… французик он, Берта, из приезжих. Поначалу с Любкой роману крутил, а потом умотал к себе, ее бросил… вот. И ни весточки, как есть позабыл про Любку.
Не понимаю, но слушаю. Коробка в руках смялась, и теперь зефир прилипнет к крышке, придется сколупывать пальцами, а Елена Павловна будет говорить, что мы безманерные. Глупое какое-то слово.
– Там это, фотокарточка, и медальонка, которую он ей оставил. Степка не велел отдавать. Ты не подумай, нам чужого не надо, но зачем тебе такая анкета, а?
Не знаю. А зачем мне вообще анкета? Спросить? Но тетка совсем-совсем чужая, как такую спрашивать?
– А я вот решила, что раз батька, то пущай будет. Оно ж в жизни по-всякому обернуться может, мало ли…
Она еще что-то говорила, моя-чужая тетка, только я не запомнила. Я ведь невнимательная, это все знают. А в коробке, кроме зефира, лежало две фотографии, желто-коричневых, строгих, с зубчатым краем и подписанных непонятно, и еще тонкая желтая цепочка с овальным медальоном. Если сбоку нажать, он раскрывался, правда, внутри пусто, но я что-нибудь придумаю, а пока и так носить можно. Медальон красивый, со львом, который в лапах солнце держит.
Тетка действительно больше не приезжала.
Семен
– Да ничего я не знаю! Ничегошеньки. – Татьяна Васильевна зло раздавила окурок в пепельнице и закрыла лицо ладонями. Плечи под тонкой белой тканью блузы дрогнули, подались вперед, четче обрисовывая широкие треугольники лопаток. – Господи, когда это кончится-то!
– Что кончится? – вежливо поинтересовался Венька, присаживаясь на пластиковый стул. Семен вот присесть не рискнул, очень уж ненадежною выглядела мебель, еще треснет или, хуже того, разломается, придется потом объяснительные писать. Уж лучше он под яблонькою постоит…
– Все! Все кончится! Когда ж они отстанут! Да я с Людкой сто лет не виделась, понимаете? Я вообще не знала, что она приехала! Она ж теперь крутая стала… – Кривоватая улыбка, асимметричные, резкие черты лица, крашенные в медно-рыжий цвет волосы и такая же, медно-рыжая, сухая, украшенная ранними морщинами кожа. Татьяна Васильевна если и была красавицей, то очень давно.
– Что? Нехороша, да? – Она вдруг обернулась, полоснула злым обжигающим взглядом. – А Людка, значит, хороша? Стерва!
– Татьяна Васильевна, успокойтесь, расскажите обо всем, что случилось… когда вы познакомились с Людмилой?
– Когда? Да в детском саду еще, ее Берта привела. – Петрушова вздохнула, потянулась за пачкой сигарет и, вытащив одну, спросила: – Огоньку не найдется?
– Пожалуйста, – Венька предупредительно щелкнул зажигалкой.
– Вот, Берта, значит… представляете, она такая красивая была. Я до сих пор помню, честно! Белое платье в черный горох, юбка широкая, солнышком, ворот треугольником, пояс красный, блестящий. И туфельки красные…
– У Берты?
– Ага. Я никогда таких, как она, не видела… и еще духи, не «Красная Москва», как у мамки, другие… а Милка, Милка вот обычной была. Никакой. Вечно спала, что в саду, что в школе на уроках, что потом. Нет, тупой не была, наоборот даже, вроде и продремлет все, а начнешь спрашивать – знает, вот хоть слово в слово повторит. И память у нее хорошая… была. А вот характера никакого. Так мне казалось. – Она стряхнула пепел на землю, вздохнула и продолжила: – Мне Милка вообще не нравилась, но Берта… из-за нее я в доме любила бывать. И из-за Сары тоже, они вместе жили… Вы когда-нибудь слушали патефон? Труба желтая, блестящая, как ракушка морская, ручку накручиваешь, стараясь не пережать, чтоб пружина не сломалась, и потом пускаешь, и пластинку наверх кладешь, и лапку с иглой вниз…
На зеленый, опушенный плотным войлоком тонких волосков лист присел шмель, потоптался, разворачиваясь, и с тихим гулом поднялся в воздух.
– У них в доме много всяких вещей было и кроме патефона. Книги вот… или альбомы, фотокарточки старые, коричнево-желтые, с вырезанными краями и надписями непонятными, а там дамы в таких вот, – Татьяна Васильевна прочертила в воздухе неровный круг, – шляпках и платьях до земли. И кавалеры. И коляски, лошади… все такое смешное, будто ненастоящее. Еще у бабы Сары карты были, таро, самые настоящие, она их иногда раскладывала, просто, для себя, но потом мешала и смеялась, говорила, что на себя не гадают, нельзя… вот…
– А Людмила? – тихо уточнил Венька, рукой отгоняя назойливого шмеля, может быть, того самого, который сидел на яблоневом листе.
– А Людмила на мать дулась, всегда причем. Вот вслух вроде ничего не говорит, но иногда… понимаете, у Людки взгляд такой, вот вроде мельком, мимолетом, а точно резанет. – Татьяна Васильевна вздрогнула и поежилась, хотя на улице было жарко, очень жарко. Шея уже не чесалась – пекла, а к вечеру пойдет пузырьками ожогов, придется мазями мазать и терпеть, а Машка еще и ругаться станет. И Венька ее с охотою поддержит, как всегда. Подкаблучник.
– Вы это, давайте в дом пройдете? – Петрушова вскочила, и легкий стул от толчка опрокинулся, но не упал, подпертый зеленым лохматым кустом шиповника. – В доме лучше будет. Не так жарко!
Она говорила громко, и отчего-то Семен сразу понял, что не в жаре дело, точнее, не только в ней, уж больно у Татьяны глаза стали испуганными. Семен обернулся – ничего. За забором пустая улица с желтою в выбоинах и яминах дорогою, с обеих сторон которой щетинилась низкая крапива. Дом напротив старый, но вроде как жилой – дверь открыта, ветер шевелит белую штору, во дворе куры копошатся, и рыжая собачонка, сунув лисью морду между штакетинами, печально смотрит на дорогу.
Ничего и никого. Кого она испугалась?
– В дом, в дом давайте. – Татьяна открыла дверь, откинула зеленую москитную сетку и шмыгнула внутрь, предупредив: – Осторожно, тут порожек!
Семену пришлось пригибаться, уж больно дверь была низкою. В сенях пахло травами, духами и кислым молоком, а в самом доме – хвоей и чем-то еще, резким и тягучим.
– Глянь, – Венька ткнул локтем и кивком указал на окно. В уголке, там, где за гвоздь крепилась толстая нить с натянутым тюлем, торчал сухой веник травы. И с другой стороны окна тоже. И над дверью, тут Семен сам заметил, без Венькиной подсказки. Для запаха она, что ли?