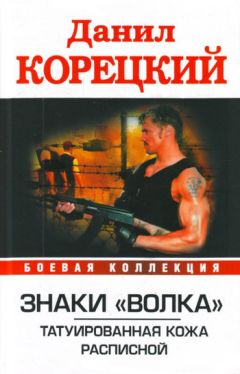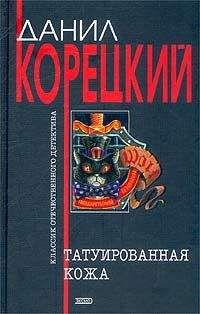Даниил Корецкий - Адрес командировки - тюрьма
— Слыхал чего-то…
— Керим про эту зону рассказывал, — вмешался Катала.
— И мне тоже, — подтвердил лысый громила. — Говорил, там даже законника опетушить[28] могут.
Расписной кивнул.
— Точно. В "белом лебеде" ни шестерок, ни петухов, ни козлов, ни мужиков нет. Вообще нет перхоти. Один блат — воры и жулики, вся отрицаловка[29]. А вместо вертухаев — спецназ с дубинками. Только не с резиновыми, а деревянными: врежет раз — мозги наружу, сам видел. И сактируют без проблем — или тепловой удар напишут, или инфаркт, или еще что… Через месяц из воров да жуликов и мужики получаются, и шестерки, и петухи… А кто не выдерживает такого беспредела, пишет начальнику заяву, мол, прошу перевести в обычную колонию…
— Если воры гнутся, у них уши мнутся[30], — бойко произнес Катала, но его шутка повисла в воздухе. Все помрачнели. Ни Калику, ни блаткомитету не хотелось бы оказаться в "белом лебеде".
— А он, братва, все в цвет говорит, — обратился к остальным лысый. — Керим точно так рассказывал. Я думаю, пацан правильный.
— Кажись, так, — поддержал его еще один блаткомитетчик со сморщенным, как печеное яблоко, лицом и белесыми ресницами. — Наш он. Я сук за километр чую.
— Свойский, сразу видать… — слегка улыбнулся высокий мускулистый парень. На правом плече у него красовалась каллиграфическая надпись: "Я сполна уплатил за дорогу". На левом она продолжалась: "Дайте в юность обратный билет". Обе надписи окружали виньетки из колючей проволоки и рисунки — нынешней беспутной и прежней — чистой и непорочной жизни.
— Закон знает, общество уважает, надо принять как человека…
— Наш…
— Деловой…
Большая часть блаткомитета высказалась в пользу новичка.
— А мне он не нравится. — Зубач заглянул Расписному в глаза, усмехаясь настолько знающе, будто читал совершенно секретный план инфильтрации Вольфа в мордовскую НТК-18 и даже знал кодовое обозначение операции "Старый друг".
— Если он шпион, почему его в общую хату кинули? Почему у него все отмазки на такой дальняк? Пока малевки в пустыню дойдут, пока ответ придет, нас уже всех растасуют по зонам!
— А зоны где? На Луне или на Земле? — спросил зэк, мечтающий вернуться в юность.
— Ладно, — веско сказал Калик, и все замолчали: последнее слово оставалось за смотрящим. А он должен был продемонстрировать мудрость и справедливость. Расписной нам свою жизнь обсказал. Мы его выслушали, слова вроде правильные. На фуфле мы его не поймали. Пусть пока живет как блатной, будем за одним столом корянку ломать[31]. И спит пусть на нижней шконке…
— А если он сука?! — оскалился Зубач.
Расписной вскочил:
— Фильтруй базар[32], кадык вырву!
В данной ситуации у него был только один путь: если Зубач не включит заднюю передачу, его придется искалечить или убить. Вольф мог сделать и то и другое, причем ничем не рискуя: выступая от своего имени, Зубач сам и обязан отвечать за слова, камера мазу за него держать не станет[33]. Если же оскорбление останется безнаказанным, то повиснет на вороте сучьим ярлыком. Но настрой Расписного почувствовали все. Зубач отвел взгляд и сбавил тон.
— Я тебя сукой не назвал, брателла, я сказал "если". Менты — гады хитрые, на любые подлянки идут… Нам нужно ухо востро держать!
— Ладно, — повторил Калик. — Волну гнать не надо. Мы Керима спросим, он нам все и обскажет.
"Это вряд ли", — подумал Вольф.
Керим погиб два месяца назад, именно поэтому он и был выбран на роль главного свидетеля в пользу Расписного.
— Конечно, спросите, братаны. Можете еще Сивого спросить. Когда меня за лопатник шпионский упаковали, я с ним три месяца в одной хате парился. Там же, в Рохи-Сафед, в следственном блоке. Пока в Москву не отвезли.
— О! Чего ж ты сразу не сказал? — На сером булыжнике появилось подобие улыбки. — Это ж мой кореш, мы пять лет на соседних шконках валялись! Я знаю, что он там за наркоту влетел.
— Ему еще двойной мокряк шьют, — сказал Расписной. — Менты прессовали по-черному, у него ж, знаешь, язва, экзема…
— Знаю. — Калик кивнул.
— Они его так дуплили, что язва no-новой открылась и струпьями весь покрылся, как прокаженный… Неделю кровью блевал, не жрал ничего, думал коньки отбросит…
С Сивым сидел двойник Расписного. Не точная копия, конечно, просто светловолосый мускулистый парень, подобранный из младших офицеров Системы. Офицера покрыли схожими рисунками из трудносмываемой краски, снабдили документами на имя Вольдемара Генриха Вольфа. Двойник наделал шуму в следственном корпусе: дважды пытался бежать, отобрал пистолет у дежурного, объявлял голодовку, подбивал зэков на бунт. "Ввиду крайней опасности" его держали в одиночке и даже выводили на прогулку отдельно. Таким образом, все слышали об отчаянном татуированном немце, многие видели его издалека, а с Сивым он действительно просидел несколько недель в одной камере. Потом Вольф прослушал все магнитофонные записи их разговоров и изучил письменные отчеты офицера, удивляясь его стойкости и долготерпению. Сивый был гнойным полутрупом, крайне подозрительным, жестоким и агрессивным, ожидать от него можно было чего угодно.
Потом двойника вроде бы повезли в Москву на дальнейшее следствие и вывели из разработки, он давно смыл с тела краску и, может быть, забыл об этом непродолжительном эпизоде своей службы. А слухи о поставившем на уши следственный корпус и круто насолившем рохи-сафедским вертухаям Вольфе стали распространяться по уголовному миру со скоростью тюремных этапов. То, что Калик оказался другом Сивого, было чистой случайностью, но эта случайность оказалась полезной. А от возможных неприятных последствий такой случайности следовало застраховаться.
— У него даже крыша потекла: то мать свою в камере увидел, то меня по утрянке не узнал… Каждую неделю к психиатру водили!
— Жаль другана. Мы с ним вдвоем, считай, усольскую зону перекрасили. Была красная, стала черная[34]. Нас вначале всего два человека и было, все остальные перхоть, бакланье и петушня[35]. Раз мы спина к спине против двадцати козлов махались! А потом Сашка Черный на зону зарулил, Хохол, Сеня Хохотун…
— И Алик Глинозем! — продолжил за Калика Расписной. — Алик этого козла Балабанова из СВП[36] насквозь арматурным прутом проткнул, а Щелявого в бетономешалку засунули!
— Точно, так все и было! Я его и засунул!
На лице Калика впервые появилось человеческое выражение.
— Тогда эта шелупня прикинула муде к бороде и выступать перестала. Поняли, сучня, чем пахнет!
Калик встал и улыбнулся непривычными губами.
— Знаете, братва, я ведь вначале сомневался. Не люблю непоняток, на них всегда можно вляпаться вблудную[37]. Но теперь сам вижу — Расписной из наших…
— Я думаю, проверить все равно надо! — перебил Смотрящего Зубач. Калик вспылил.
— Что ты думаешь, я то давно высрал! — окрысился он. — Ты на кого балан катишь[38]?! Я здесь решаю, кто чего стоит! Потому освобождай свою шконку — на ней Расписной спать будет!
Зубач бросил на Вольфа откровенно ненавидящий взгляд и собрал постель с третьей от окна шконки. Через минуту он сильными пинками согнал мостящихся на одной кровати Савку и Ероху.
* * *
Спать на нижней койке в блатном кутке — совсем не то, что на третьем ярусе у двери. Ночная прохлада просачивалась сквозь затянутое проволочной сеткой окно, кислород почти нормально насыщал воздух, позволяя свободно дышать. Занимать шконки второго и третьего ярусов над местами людей запрещалось, поэтому плотность населения здесь была невысокой.
Зато дальше от окна она возрастала в геометрической прогрессии. Слабое движение воздуха здесь не ощущалось вовсе, потому что Катала отгородил блатной угол простынями, перекрыв кислород остальной части камеры. Парашная вонь, испарения немытых тел, храп, миазмы тяжелого дыхания и бурления кишечников поднимались к потолку, и на третьем ярусе нормальное человеческое существо не смогло бы выдержать больше десяти минут. Поэтому многие спускались, присаживались на краешек нижней койки, пытались пристроиться вторым на кровати. Иногда это не встречало сопротивления, чаще вызывало озлобленное противодействие.
— Лезь назад, сучара! Тут и без тебя дышать нечем!
В глубине хаты раздались две увесистые оплеухи. Оттуда то и дело доносились хрипы, стоны, какая-то возня, приглушенные вскрики. Кто-то отчаянно чесался, кто-то звонко хлестал ладонью по голому телу, кто-то всхлипывал во сне или наяву. Вольф понимал: происходить там может все, что угодно. Кого-то могут офоршмачить[39], опетушить или вовсе заделать вчистую[40]: задушить подушкой или вогнать в ухо тонкую острую заточку. Потапыч говорил, что зэков актируют без вскрытия и обычных формальностей.