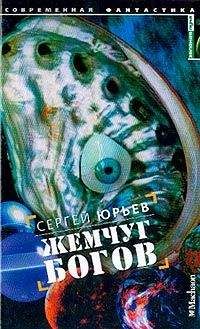Василий Казаринов - Ритуальные услуги
Начало припекать. Я снял куртку, бросил ее на руль и опять прояснил замутившийся в дороге взгляд кондора, протерев его кровавый глаз платком.
— И что ты по этому поводу думаешь? — спросил я, разглядывая заколоченные посеревшими от дождей досками слепые окна дома, который выглядел совершенно нежилым, вот разве что трава, стелющаяся от покосившихся ступенек крыльца к сально поблескивавшей глине обрывистого бережка, была слегка примята, как будто хранила смутный отпечаток следа прошедшего здесь не слишком давно человека.
Мой ширококрылый спутник отозвался ярким всполохом солнечного света, скользнувшего в пуговке стеклянного глаза.
— Вот и я так думаю.
По дороге к пруду я заметил справа по ходу большой провал в сетчатом заборе, открывавший путь к железнодорожной насыпи. Развернувшись, я направился туда, кое-как перебрался через канаву и узкой тропкой, местами совсем захлестнутой высокой травой, с грехом пополам дотянул до пруда. Оставив «Урал» в зарослях кустарника, я прошел немного вперед и оказался почти рядом с той березой, возле которой только что притормаживал, с той лишь разницей, что теперь находился на ничейной территории по ту сторону забора, сквозь крупные ячейки которого мне хорошо был виден домик у пруда. Я опустился в траву за покатым холмиком, по открытой солнцу макушке которого разбредались кустики земляники, и с этого момента время неслышно, на цыпочках ступая, потекло вслед за солнцем, медленно сдвигавшим тень березового ствола слева направо, — мне и того уже было достаточно, что под рукой была вода, необходимая растительному существу для жизни, и солнечный свет, преображающийся в моих жилах в питательный хлорофилл.
Меня никто не замечал в моем укрытии — ни загорелый, с выпирающими лопатками, мальчик, кинувшийся с берега в воду и размашистыми, неумелыми саженками, то и дело закидывая лицо назад, погребший к другому берегу, ни престарелая дачница в светлом просторном сарафане, прилегшая на берегу на махровой подстилке и пролежавшая без движения, словно сфинкс, довольно долго, ни какие-то работяги, по говору молдаване, как видно подрабатывающие на дачном строительстве, — они, впрочем, появились уже в сумерках и, усевшись под березой, начали неторопливо и тихо пить водку, перебрасываясь приглушенными репликами… Последним пруд покинул сутуловатый рыболов, который все пытался заарканить своей изредка тонко свистящей на забросе леской отраженный свет полной луны, парящий, как казалось, низко над водой, путаясь в мутноватой дымке пара. Потом все стихло, только истошно брехала в глубинах поселка бессонная собака, но в самой сердцевине глухой, без звуков и движений, ночи раздался тихий плеск воды.
Соскользнув с берега, она тихо погрузилась в воду, но я успел заметить, как за минуту до этого в густой тени боярышника появилось матово белое тело обнаженной женщины — ей некого было стесняться в такой глухой сумрачный час, из глубин которого вряд ли кто из давно сморенных сном трудолюбивых дачников мог за нею подсматривать. Я тихой сапой перебрался через забор прудового домика и укрылся в тени боярышника, сбоку от крылечка, терпеливо дожидаясь того момента, когда лунная дорожка в черной глади воды подернется рябью и опять раздастся тихий плеск воды, отпускающей из себя белое тело голой женщины.
Она постояла на берегу спиной ко мне, потом медленно повернулась и, неслышно ступая босыми ногами, двинулась к дому, на цыпочках взошла на крыльцо, отворила дверь. Метнувшись через перильце крыльца, я успел вставить ногу в узкий проем между встающей на место дверью и косяком, резким толчком распахнул дверь, вошел в теплый сумрак дома, вытянув вперед руку, и наткнулся ладонью на голое мокрое плечо.
— Здравствуй, — тихо проговорил я, привлекая ее к себе. — Мы с тобой не закончили там, на лестнице.
Она с коротким обреченным криком разом обмякла, ватно ткнулась мне в плечо мокрым лбом, но очень быстро пришла в себя, оттаяв от приступа оторопи, и по телу ее прокатилась волна мелкой дрожи, — уперевшись руками мне в грудь, она откинулась назад, и я смог различить черты ее красивого лица, потому что глаза мои уже начали привыкать к темноте.
Она была, конечно, из породы сильных женщин, очень сильных, таких мне встречать еще не приходилось: мгновенно оценив ситуацию, она сузила глаза, пошевелила плечами, и большие ее груди в ответ на это движение так соблазнительно колыхнулись, а рука тем временем, соскользнув с моей груди, протекла по животу и плавно погрузилась под джинсы, благо я успел задержать дыхание и втянуть живот.
— А что… — дохнула она на меня теплом. — Почему бы и нет. Не закончили там, так закончим здесь.
— А ты не понимаешь, — покачал я головой, поймав себя на том, что не испытываю в этот момент ни сколько-нибудь внятных эмоций, ни доступного душевному чувствованию порыва и уж тем более не слышу отголоска хоть какой-то туманной мысли, а просто движим неистребимым в веках, мудрым инстинктом.
Она, похоже, уловила мой настрой, напряглась, попыталась вырваться, но я был много крепче — рывком развернув за плечи, я втолкнул ее на веранду, обрушил на круглый обеденный стол и молча пошел у инстинкта на поводу, а она забилась, завертелась подо мной, но я был сильнее ее, и жезл мой деревянный был крепок. Наконец она сдалась, расслабилась, поникла и увяла, а потом, вывернув искаженное болью лицо, косо глянула на меня через плечо:
— Чего ты добиваешься, сволочь?
— Ничего, — сказал я, опуская руки на ее талию. — Просто хочу тебе кое-что рассказать. — Я плавно подтолкнул бедра вперед и уже не останавливался, выталкивая из себя вместе с этими тупыми, монотонными накатами на нее слово за словом — до тех пор, пока, мелко сотрясаясь, не начал стряхивать с себя пыльцу, и она, принимая ее неизбежные налеты, не начала глухо и волнисто подвывать, а потом, истопив в себе упругость моего жезла, соскользнула с него, сползла со стола на пол, постояла на коленях, тупо мотая головой из стороны в сторону, повалилась на бок, села, прислонилась к ножке стола и, вульгарно развалив ноги, подняла на меня совершенно мутный взгляд.
— И чего ты добился, дубина? Ты, сволочь стоеросовая?
— Можно подумать, что ты у нас сволочь шоколадная. — Я сдернул со спинки стула большое махровое полотенце, бросил ей.
— Дубина… — усмехнулась она, не сделав и попытки прикрыться. — Аркадия знают, банковские клерки. Они его видели столько раз. Это во-первых. И во-вторых, у тебя нет ключа. Словом, у тебя нет ни малейшего шанса…
— Ну, не скажи. — Я погладил себя по бритой голове, потер кулаком шершавый от густой щетины подбородок. — Шевелюра скоро отрастет, борода тоже. И я наведаюсь в салон по уходу за истинными джентльменами — с одной из тамошних парикмахерш я свел знакомство. Она, увидев меня, так искренне сокрушалась, что все ее парикмахерские старания пошли коту под хвост. И обещала, как только волосы отрастут, в точности повторить фасон того зачеса, который она выстроила уже однажды на моей голове. Ну и бородки — тоже.
— Сволочь… — прошептала она, начав догадываться.
— Ты хочешь сказать, что желтоголовый Боря не так давно отчалил на другой берег? — спросил я. — Это большая утрата, но она дела не меняет. Видишь ли, у меня есть хороший друг. Он работает с трупами, но это не должно тебя беспокоить. У него огромный опыт в восстановлении по фотографиям первозданного облика покойного клиента. — Я полез в карман куртки, достал поляроидную карточку, на которой был запечатлен пьяным молодым человеком в Строгино. — Очень удачный снимок. Четкий, контрастный. Так что у Вадима в работе с моей физиономией проблем не будет.
Я на долю секунды опередил ее бросок, отбил руку, метнувшуюся к карточке, однако она, пружинисто вскочив на ноги, ринулась в очередную атаку, от вспышки кошачьей ярости почти ослепнув. У меня вовсе не было намерения ее ударить — она сама сослепу налетела скулой на мой кулак, дернула головой, и, завиваясь винтом вокруг своей оси, повалилась на бок, тупо тюкнувшись виском в край стола, рухнула на пол. Я присел на корточки, осторожно перевернул ее на спину. Глаза ее закатились.
— Ничего страшного, это не более чем глубокий нокаут, — поставил я диагноз, подхватил ее на руки, отнес в комнату, уложил на кровать, прикрыл одеялом.
Осмотр дома ничего не дал. Это была старая, доживающая свой век дачка с верандой, двумя комнатами на первом этаже и одной просторной наверху, в ее не тронутых продувным сквозняком стенах плыли плотные запахи пыли, дерева, до истошного скрипа в половицах просохшего за лето, старых одеял и еще какие-то особые дачные ароматы. Как снаружи, так и внутри дачка производила впечатление нежилой — в комнатах царил тот идеальный порядок, что оставляет хозяйка поздней осенью, готовясь к переезду на зимние квартиры, вот разве что в спальне пыльный ковер был неряшливо сдвинут в сторону. Рядом бесхозно валялся на полу тонкоствольный фонарик с галогенным отражателем.