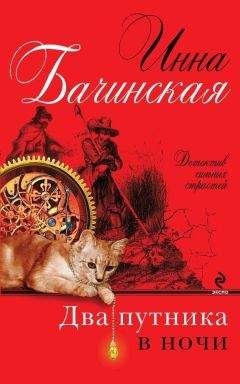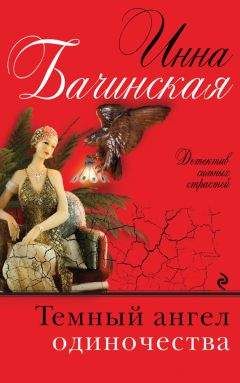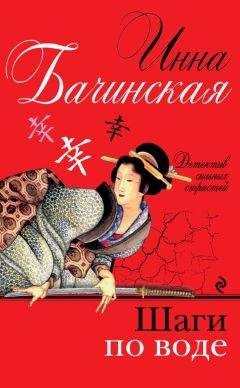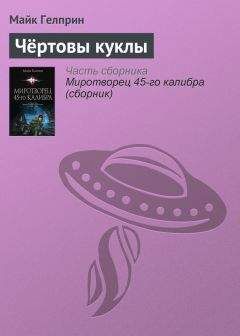Виктор Пронин - Ледяной ветер азарта
Через какое же сито проходят эти люди, оказываясь здесь, высаживаясь на этом берегу из вертолетов, барж, катеров, а один даже шлюпкой добрался, на веслах пришел – был такой случай. Господи, даже Хромов! Да, он завистлив, его не назовешь порядочным, он ненадежен в работе, но он здесь.
Панюшкин вспомнил вдруг, какая дьявольская радость сверкала в маленьких глазках Хромова, когда тот однажды стоял на самом берегу, у воды и смотрел на бандитски вздыбленные волны. Дождь вперемешку с брызгами хлестал Хромову в лицо, морская пена стекала по пухлым небритым щекам, холодный ветер насквозь продувал жиденький пиджачишко с болтающимися пуговицами, а на лице Хромова светилось счастье. В каком-то самозабвении он вошел в воду по щиколотку, волны захлестнули ему колени, а он, сделав еще шаг вперед, крикнул что-то радостно и зло, крикнул прямо в волны, в ветер. Панюшкин не расслышал тогда ни слова, но понял, что и в хрипящей, прокуренной груди Хромова горит этот маленький непонятный огонек. Потом была оперативка, затяжная, унылая и обессиливающая оперативка, на которой нужно было решить уйму мелких вопросов. Хромов сидел в углу на своем обычном месте вялый и опустошенный. Лишь иногда он поднимал голову, блуждающим взглядом скользил по стенам, а увидев в окно Пролив, будто напрягался, грудь поднималась от тяжелого глубокого вздоха, а в глазах опять вспыхивал вызов...
Панюшкин чувствовал, как холодный воздух вливается в легкие, оставляя ощущение прохлады и свежести. Он с удивлением осознал вдруг, что ему легко, почти беззаботно, что не тревожат его уже ни Комиссия, ни ее выводы. Неожиданно пришло ощущение спокойствия и уверенности – он сделал все, что от него зависело, сделал так, как считал нужным. Вспоминая недавнюю встречу с Комиссией, свои ответы, свое выступление, приходил к выводу, что все сделал правильно, и был доволен собой. Он не лебезил, не клянчил, не лукавил, не передергивал карты, не сваливал на кого-то свою вину, настоящую или мнимую, не искал дешевых оправданий. Не просил снисхождения. Да, главное – не просил снисхождения... Это хорошо. Иначе ему не дышалось бы сейчас так бодряще... И Панюшкин еще раз вздохнул, набрав полную грудь морозного чистого воздуха, и резко выдохнул, будто вытолкнул из себя раздражающую суету последних дней, неуверенность, выдохнул бумажную пыль отчетов, справок, протоколов, освободился от гнетущего чувства зависимости.
– Ничего, – сказал он вслух. – Авось. – И, прищурившись, зло и расчетливо посмотрел на Пролив. Ты сделал свою работу, Коля. Ты выполнил ее настолько хорошо, насколько мог. Если тебе не в чем упрекнуть себя, так ли уж важно, в чем упрекнут тебя эти люди? Ты знаешь о себе больше, чем они, значит, твой суд все равно жестче и справедливее.
Уже повернув к Поселку, Панюшкин неожиданно среди заснеженных сопок увидел маленькую темную фигурку, медленно двигающуюся навстречу. «Кто бы это мог быть?» – подумал он озадаченно. Обычно строители избегали уходить далеко от Поселка, опасаясь заблудиться. Метров за сто Панюшкин узнал Анну Югалдину. «Что это она?» – забеспокоился он и прибавил шагу. За год, который прожила Анна в Поселке, у нее с Панюшкиным установились странные, полушутливые отношения. Она была единственным человеком, который мог подтрунивать над начальником, позволять себе рискованные шуточки в его адрес. Да и Панюшкин с самого начала признал за ней право вести себя как она считала нужным и, несмотря на бесконечные пересуды о ней, смешки, знал наверняка – за ними нет ровным счетом ничего. Она слишком пренебрегала мнением о себе, чтобы опуститься до опровержения слухов. Опровергать, полагала Анна, – значит оправдываться, а оправдываться она не хотела ни перед кем. Даже Званцев если и не верил слухам полностью, то все-таки допускал, что за ними кое-что есть, но, решив быть великодушным, согласился не обращать на них внимания. Анна лишь улыбнулась, когда он сказал, что его не интересует ее прошлое, дав понять, что прощает ее заблуждения. Но, не отвергая сплетен, она тем самым как бы подтверждала их, а видя особое, со значением, отношение к себе, включалась в игру, представляясь той, за кого ее принимали, и в то же время презирая тех, перед кем вынуждена была разыгрывать комедию. И замыкалась. Это было неизбежно.
– Николай Петрович! – крикнула Анна еще издали. Она подошла, запыхавшись, ее глаза радостно блестели. – Идемте вместе!
– С удовольствием! – ответил Панюшкин.
– А! – Она с досадой махнула рукой. – Какое там удовольствие! Вы убегаете от меня, едва только завидите! Дела у вас сразу находятся, заботы одолевают – не подступись!
– А заметно?
– Мне заметно. Не убегайте, Николай Петрович... А то и словом переброситься не с кем, ей-богу!
– Конечно, если будешь забираться вот в такие места, то, кроме меня, в самом деле не с кем будет потолковать. Да, что ты здесь делаешь?
– Гуляю, – Анна пожала плечами. – Мозгами шевелю. Одиноких путников подстерегаю... Иногда большие начальники попадаются.
Панюшкин совсем рядом увидел ее раскрасневшееся на морозе лицо, глаза, шалую улыбку, и вдруг его охватила робость, что-то дрогнуло в нем, он почти в панике оглянулся по сторонам – нет ли кого, кто пришел бы на помощь и избавил бы его от этого разговора, от этой улыбки, но вокруг было все так же пустынно и солнечно.
– Нет, я не могу так разговаривать, – пробормотал он. – Я не могу разговаривать, когда на меня смотрят... вот так смотрят... Такими глазами...
– Николай Петрович! – предостерегающе сказала Анна. – Возьмите себя в руки!
– Ох, Анна, если бы ты знала, как хочется иногда выпустить себя из рук! Знаешь, как голубя запустить в небо – чтоб только шелест крыльев, и солнце в глаза, и синева, синева, синева!
– За чем дело стало?
– Не знаю, – вздохнул Панюшкин. – Понятия не имею. Стар я уже для того, чтобы крыльями хлопать. Жаль, конечно, но... Тут уж хоть криком кричи, хоть волком вой, а ничего не изменишь.
– Да не верю я вам! Вы просто... кокетничаете, – засмеялась Анна.
– И для этого я стар, – Панюшкин недовольно нахмурился и чуть повел плечом, как бы отгораживаясь и от Анны, и от ее вопросов. Он не нравился себе в этот момент – сам заговорил о собственной старости, спохватился, но было поздно, появилось ощущение досадной оплошности.
– Не верю я вам ни на грош, – повторила Анна. – Вот на столько не верю, – вынув руку из кармана полушубка, она показала ему кончик мизинца. – Ведь вы здесь, на этом побережье... один! Остальные так... кобели.
– Знаешь, Анна, воздавая мне, так сказать, должное, обходилась бы ты без таких слов, а?
– Ну, простите! Нет, я в самом деле прошу прощения, не верите? Не обижайтесь, Николай Петрович! Ну, лады? Тогда я задам один вопрос... если вы не против...
– Задавай. Люблю вопросы.
– Даже неприятные?
– Особенно неприятные. В них раскрывается тот, кто задает эти вопросы. Если я знаю, что тебя интересует, значит, я знаю, кто ты, чем дышишь, о чем думаешь... Так что давай свои каверзные вопросы.
– Вы меня озадачили, – смутилась Анна. – Лучше задам приятный вопрос... Скажите, Николай Петрович, а вот так, не скрывая, не тая... Была у вас в жизни настоящая любовь? Понимаете, по большому счету? Вернее, я уверена, что была, не может не быть... Иначе вы не были бы таким, какой есть...
– Ну-ну, это интересно! – подзадорил Панюшкин.
– Скажу-скажу, не подстегивайте! Понимаете, мне кажется, есть у вас нечто такое... А, черт! Мозги буксуют... Есть такое, что говорит о... о готовности принять... даже нет – взять на себя ответственность большой любви. Примерно так. Я права?
– Возможно, – Панюшкин в смущении спрятался за воротник. – Возможно, – повторил он в растерянности, окая больше обычного. Привыкнув оценивать свои мысли, чувства, он не мог не признать, что ему приятно ее предположение.
– Ну а теперь, когда я выдала вам такой комплимент, ответьте все-таки на мой вопрос. – И Панюшкин снова увидел Анну настолько близко, что ее лицо закрыло от него Пролив, побережье, тропинку, по которой они шли. – Ну? – требовательно повторила Анна. – Была любовь?
– Думаю, была.
– Несчастная?
– Видишь ли, Анна... Мне кажется, что большая любовь всегда несчастна, поскольку обещает больше, чем дает, вообще от нее ждешь больше, чем она может дать. Отсюда – боль, разочарование, опустошенность. И потом... Любовь лишь тогда кажется большой, настоящей, красивой... когда она несчастная. Мне так кажется. Несостоявшаяся любовь всегда представляется значительнее, ее утрата – больнее. Кроме того, большая любовь обычно уходит, не соприкоснувшись с бытом, он не успевает разъесть ее, она уходит возвышенной и чистой... Говорят же, что несказанное слово – золотое... А если все идет гладко, ровно... ее почти не замечаешь, воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся, как должное. Про такую любовь и язык не повернется сказать, что она... В общем, ты меня понимаешь.