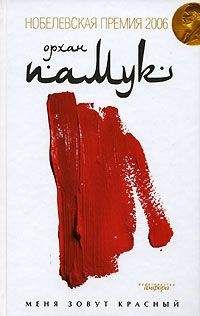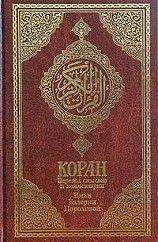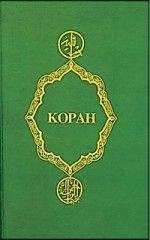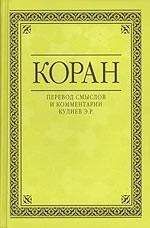Орхан Памук - Имя мне – Красный
Если всевышний Аллах, самый великий Творец, создал нас, лошадей, непохожими друг на друга, то почему же художники рисуют нас так, как однажды запомнили? Почему похваляются тем, что, не глядя на нас, нарисовали тысячи, десятки тысяч коней? А потому, что они пытаются рисовать мир не таким, каким он представляется их собственным глазам, а таким, каким его видит Аллах. Разве это не кощунство – утверждать, будто ты можешь сделать то, что сделал Аллах? Разве художники, которые говорят, что не довольствуются видимым оку, а раз за разом, тысячи раз, рисуют лошадь такой, какой ее видит Аллах, – то есть ту лошадь, образ которой существует в их голове, – не впадают в грех, пытаясь соперничать со Всевышним?
Новые методы, придуманные европейскими мастерами, вовсе не безбожны, – напротив, они лучше всего соответствуют установлениям нашей веры. Да не поймут меня превратно наши братья – поклонники проповедника-эрзурумца: мне вовсе не нравится, что европейские гяуры позволяют своим женам и дочерям разгуливать полуголыми, что они не знают толка в кофе и красивых мальчиках, бреют бороду и усы, а волосы, наоборот, отращивают, словно женщины, и что они, наконец, утверждают, будто пророк Иса был сразу и человеком, и Аллахом. Я так на них зол за это, что если кто-нибудь из них окажется рядом – непременно лягну как следует.
Однако мне надоело, что художники, сидящие по домам, подобно женщинам, и ни разу в жизни не бывавшие на войне, изображают меня неправильно. По их мнению, на скаку мы выбрасываем вперед одновременно обе передние ноги. Ни один конь никогда в жизни так не скакал – так зайцы бегают, а не лошади! Ноги я передвигаю поочередно. Ни один конь не станет, словно любопытная собака, вытягивать вперед одну переднюю ногу, когда другая прочно стоит на земле, – а такое можно увидеть на любом рисунке, изображающем военный поход. И никогда ни один отряд сипахи не скакал так, как рисуют: все кони идут в ногу, каждый похож на тень другого, повторенную двадцать раз. Когда на нас никто не смотрит, мы пасемся, щиплем зеленую травку, а вовсе не стоим в изящной позе, застыв на месте. Почему все так стесняются того, что мы едим, пьем, испражняемся, спим? Почему боятся рисовать предмет моей гордости? Что плохого, если какая-нибудь женщина или ребенок, оставшись с книгой наедине, вволю на него насмотрятся? Или проповедник из Эрзурума и против этого тоже возражает?
Рассказывают, что некогда в Ширазе правил старый и очень подозрительный шах. Больше всего он боялся, что враги свергнут его и посадят на трон его сына. Поэтому он не стал посылать наследника наместником в Исфахан, а заточил его в самой уединенной комнате дворца. В этой комнате, где даже не было окон, которые выходили бы во двор или в сад, наследник провел тридцать один год, и единственным развлечением все это время ему служили книги. Когда его отец завершил свой жизненный путь и наследник воссел на трон, он сразу же сказал: «Поскорее приведите мне коня! Я много раз видел его на рисунках и теперь хочу узнать, каков он на самом деле». Когда же слуги привели самого красивого чалого жеребца из дворцовой конюшни, шах был жестоко разочарован: ноздри как две трубы, зад непристойный, шерсть не блестит, как на рисунках, очертания крупа грубы… Разгневавшись, шах повелел перебить всех лошадей в стране. Сорок дней продолжалось избиение; конская кровь окрасила реки в красный цвет. Но Аллах справедлив. Вскоре на Шираз напали войска Кара-Коюнлу, и войско шаха, которое осталось без конницы, было разгромлено, а сам шах – жестоко убит. Так пусть никто не печалится, что кровь лошадей, как это бывает в книгах, осталась неотомщенной.
36. Меня зовут Кара
Когда Шекюре ушла к детям, я долго сидел, прислушиваясь к звукам в доме, к бесконечным этим шорохам и поскрипываниям. В какой-то момент я услышал, как Шевкет о чем-то шепчется с матерью, но потом Шекюре сказала: «Тсс!» Сразу после этого я уловил шорох, донесшийся со двора, от колодца, но потом снова установилась тишина. Затем мое внимание привлекла севшая на крышу чайка, но и она вскоре успокоилась. Через некоторое время с другого конца коридора долетел тяжелый стон, и я понял, что это Хайрийе плачет во сне. Стон сменился резким недолгим кашлем, и снова дом окутало отвратительное, бесконечное безмолвие. Затем мне показалось, что по комнате, где лежит тело Эниште, кто-то ходит, и я на мгновение покрылся холодным по́том.
Прислушиваясь к тишине, я смотрел на рисунки и представлял себе, как работали над ними страстный Зейтин, волоокий Келебек и покойный мастер заставок, как выводили они линии и наносили краску. Мне хотелось обратиться к какому-нибудь из рисунков по имени, как это иногда по ночам делал Эниште (он мне об этом рассказывал): «Шайтан!», «Смерть!» – но было страшно. Надо сказать, эти рисунки меня изрядно злили, потому что я так и не смог пока написать к ним подходящих рассказов, как Эниште ни просил. Кроме того, я потихоньку начинал осознавать, что рисунки имели непосредственное отношение к смерти Эниште, и оттого теперь они вызывали у меня страх и нетерпение. Я на них вдоволь насмотрелся, пока слушал рассказы Эниште, – а ведь слушал я их только потому, что хотел быть поближе к Шекюре. Но теперь, когда Шекюре стала моей женой, чего ради я должен уделять внимание этим странным картинкам? «А того ради, – сказал мне безжалостный внутренний голос, – что Шекюре не пришла к тебе, даже когда уснули дети». Я очень долго ждал, не гася свечу и глядя на рисунки, но моя черноглазая красавица так и не появилась.
Утром меня разбудили крики Хайрийе. Я вскочил с постели, схватил подсвечник и выбежал в коридор. Спросонок мне показалось, что Хасан со своими людьми напал на дом и надо быстрее прятать рисунки. Однако вскоре я понял, что это Шекюре велела Хайрийе кричать, чтобы дети и соседи узнали о смерти Эниште-эфенди.
В коридоре я столкнулся с Шекюре, мы обнялись. Напуганные криками дети вскочили с постели, но, увидев нас, остановились.
– Ваш дедушка умер, – сказала Шекюре. – Смотрите не ходите в ту комнату.
Она высвободилась из моих объятий и бросилась рыдать над телом отца.
Я завел детей обратно в комнату.
– Оденьтесь, а то замерзнете, – велел я им и присел на край постели.
– Дедушка умер не утром, а ночью, – насупился Шевкет.
Я увидел на подушке длинный волос Шекюре, сложившийся в букву «вав». Одеяло еще хранило тепло ее тела. Было слышно, что теперь она плачет и причитает вместе с Хайрийе. Кричала она очень убедительно, словно и в самом деле только что узнала о смерти отца и была застигнута врасплох горестным известием. Меня это неприятно поразило, и я подумал, что совсем не знаю Шекюре, в ней словно живет неведомый мне, чужой джинн.
– Мне страшно, – пролепетал Орхан и посмотрел на меня, как будто просил разрешения заплакать.
– Не бойтесь, – успокоил я. – Ваша мама кричит для того, чтобы соседи узнали, что дедушка умер, и пришли к нам.
– И что будет, когда они придут? – спросил Шевкет.
– Будут плакать и печалиться о дедушке вместе с нами. Они разделят нашу боль, и она немного утихнет.
– Это ты убил дедушку? – крикнул Шевкет.
Я тоже закричал на него:
– Если будешь огорчать свою маму, я не смогу тебя любить!
Мы вопили друг на друга, словно люди, стоящие на берегу шумной горной реки. Тем временем Шекюре решила открыть ставни в коридоре, чтобы ее рыдания были лучше слышны на улице. Ставни не поддавались.
Чувствуя, что не могу оставаться сторонним наблюдателем, я вышел из комнаты. Мы с Шекюре вдвоем налегли на ставни, так что они вывалились во двор. В лицо пахнуло морозным воздухом, глаза ослепило солнце, и мы на миг застыли от неожиданности. Потом Шекюре снова зарыдала, да так, словно хотела, чтобы ее услышал весь мир.
Теперь, когда весь квартал огласили рыдания Шекюре и каждый здесь узнал о смерти Эниште-эфенди, я всей душой ощутил, какое это ужасное и скорбное событие, – раньше я так остро этого не чувствовал. Какими бы ни были слезы жены, искренними или делаными, они подействовали на меня, и я, сам того не ожидая, тоже заплакал. На самом ли деле я скорбел об Эниште или страшился, что меня обвинят в его смерти, не знаю.
– Ушел, ушел мой любимый отец, оставил меня! – рыдала Шекюре.
Я тоже кричал сквозь слезы что-то в этом духе, но что – не припомню. Я видел себя глазами соседей, которые наблюдали за нами из своих домов, из-за дверей и ставней, и находил, что все делаю правильно. Чем горше я плакал, тем явственнее ощущал, как отступают сомнения в искренности моих слез, боязнь быть обвиненным в убийстве и даже страх перед Хасаном и его людьми.
Шекюре была моей, и, плача, я словно бы праздновал победу. Я обнял свою рыдающую жену и, не обращая внимания на подошедших к нам заплаканных детей, нежно поцеловал ее в щеку. Хотя я и плакал, а все равно уловил исходящий от ее щек знакомый с детства миндальный запах – тот же самый, каким веяло от ее мягкой теплой постели.