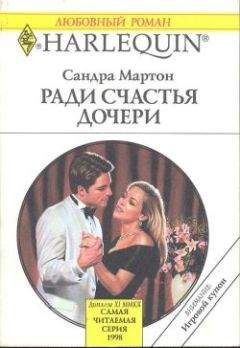Джонатон Китс - Химеры Хемингуэя
Как бы то ни было, я знал, что все это не важно. Я сам берег свои тайны, а когда от них отказывался, раскрывалась пустота. Но в этом и загвоздка: как мне распознать загадку Анастасии в абсолютно очевидном? Раскрытие тайны — вопрос эпистемологии, интерес кроется не в факте, который хранится в тайне, а в том, что он в этой тайне хранится. Разгадать невысказанную тревогу Анастасии, решил я, — значит выяснить, о чем из того, что она не знала, что я знаю, она меньше всего хотела, чтобы я узнал.
Честно говоря, ничего не придумывалось. Как-никак, со мной она едва ли утруждала себя смущением: свое первое венерическое заболевание описывала откровенно, как и первое причастие, а случайный секс с собственным профессором-педофилом беззастенчиво объяснила деловыми соображениями. Она, конечно, отказалась от всего этого ради Саймона, но тогда причины не было. Она любила мужа, сама говорила мне об этом, а когда я отказывался поверить, прекращала объяснения и отсылала меня домой к Мишель.
Значит, секрет ее в Саймоне. Что делать? Я воспользовался его же слепой наводкой. Я стал искать ключ к ее молчанию в его немом прошлом.
iv
Дежурный библиотекарь, темноволосая усатая женщина лет сорока, чья плоть болталась свободно, точно халат, никогда не слышала о Саймоне Харпере Стикли и совершенно точно не располагала реестром материалов, полученных спецфондом от его имени. На самом деле она сомневалась в каждом моем слове, и особый протест вызвало заявление, что я — тот самый Джонатон, чьи романы она читала когда-то с явным воодушевлением.
— Он умер, — заявила она. — Я уже года три не видела его новых книг.
— Я ничего не писал. Мне нечего было писать.
— Он подавал такие надежды, даже премию Мортона Гордона Гулда получил. Я точно читала где-то его некролог.
— Поищите меня в вашей базе, — настаивал я, озабоченный удостоверением собственной подлинности, подтверждением существования, пусть даже с помощью той идиотской технологии, которая несколькими годами раньше приговорила меня к моральному устареванию, сведя в таблицы такие низкие цифры продаж, что издатель был вынужден прекратить допечатки моих книг. — Просто посмотрите Джонатона… Вы же не видите здесь дату смерти, так?
— Это ничего не доказывает, — сказала она, щурясь в экран. — Библиотеку интересуют книги, а не авторы.
— И что?
— Смерть не имеет классификационной значимости.
— Если б вам сказали, что вы умерли, вы бы думали иначе.
— Дело в том, сэр, что мы используем наши базы данных в первую очередь для…
— Прекрасно. А если бы я не был предположительно покойным писателем? Если бы я был просто посетителем-студентом?
— Учебное заведение?
— Уиллистон-колледж.
— Факультет?
— Английского языка. — Я вспомнил, как Анастасия описывала порой свои академические интересы. — Специализация — американская эмигрантская литература начала двадцатого века.
— И вы по-прежнему настаиваете, что вас зовут Джонатон…
— Да. — Моя подлинность и так была слишком хрупка, чтобы выдержать еще и вымышленность псевдонима. Как все-таки Саймон это сделал? — Шмальц, — сказал я, — Саймон Шмальц.
— Теперь вы говорите, что вы Саймон Шмальц?
— Нет. Так зовут человека, пожертвовавшего материалы, которые я хочу видеть.
— Теперь, кажется, что-то есть, — признала она. Сверилась с файлами. — Да. Различные удостоверения личности начала двадцатого века и подборка французских газет. Я принесу.
Она усадила меня за массивный деревянный стол и попросила помощника найти архив Шмальца.
На следующий день шел дождь. Стэси одиноко сидела на кровати и терзала сигарету — ей запрещали курить в помещении. Распотрошенная пачка валялась перед ней на высоком матрасе. Стэси пристально посмотрела на меня и костлявыми руками обхватила лиф льняного платья.
Я сел на ее кровать в уголок.
— Стэси, — сказал я. Развернул что-то на одеяле между нами. — Поговори со мной.
Она бросила взгляд на ряды цифр в расписании поездов Лионского вокзала на 1921 год.
— Значит, ты знаешь, — выдохнула она.
Я кивнул. Назовем это блефом. Я пришел к Анастасии, не имея ни малейшего представления, что держал в руках. И уж точно не представляя ставок в игре, которая за этим последует.
— Ты уже сказал? — тихонько спросила она.
— Нет, — ответил я.
— Скажешь? — Смелее.
— А как ты хочешь?
— Я не могу позволить себе это потерять. — Абсолютно уверенно. Получилось.
— Что ты потеряешь? — спросил я.
— А что я не потеряю, Джонатон?
— Свою книгу.
— Ты жесток.
— Просто честен.
— Плагиатор!
— Я не…
— Зато я — да.
— Ты — что?
— Хочешь, чтобы я сказала прямо? Это тебя осчастливит? Я, Анастасия Лоуренс, совершила плагиат «Как пали сильные».
— Нет.
— Ты не знаешь?
— Я не верю…
— Но у тебя…
— Ты с ума сошла.
— Послушай меня.
— Кажется, лучше бы ты молчала.
— Я украла рукопись.
— И автор не заметил?
— Автор умер, Джонатон.
— Тоже по твоей вине?
— Она принадлежала Эрнесту Хемингуэю.
— Если это сюжет твоего нового романа, он не слишком убедителен.
— Но у тебя расписание… — Она взяла его с постели, чтобы рассмотреть время убытия. — В какое время суток, по-твоему, у Хедли свистнули рукопись Хемингуэя?
— В твоей истории не чувствуется смысла.
— Тогда подойди ближе.
Я повиновался. Она положила мои руки себе на колени. Удержала их там. Она получила меня. Поцеловала меня.
— Мне нужна помощь, — сказала она, отталкивая меня.
— Потому ты и в психиатрической клинике.
— Мне нужно домой.
— Ради чего?
— Ради Саймона.
— Нет.
— Он не знает.
— Что?
— Что я сделала.
— Что ты меня поцеловала?
— Это было невсерьез.
— Что?
— Я люблю Саймона. Если он узнает о моем преступлении…
— Твой бред — не преступление.
— Зачем ты мне это принес? — Она свернула расписание. — О чем ты думал?
— Блеф. Способ заставить тебя заговорить.
— Тебе нравится то, что ты слышишь?
— Я думал, все просто.
— И уж никак не литературный скандал?
— Это не скандал, Стэси. Это проблема психического состояния.
— Надеешься, я сошлюсь на безумие?
— Надеюсь, тебе станет лучше.
— Лучше обманывать?
— Это уже патология какая-то, — сказал я. — Мертвые авторы не пишут. Как ты могла украсть роман Хемингуэя?
— С этической точки зрения?
— С практической.
— А как ты украл это расписание? — Она вложила его мне в руки. — Я нашла рукопись в той же кипе старых газет. — И она процитировала мне дословно из «Праздника, который всегда с тобой»: «Когда я писал свой роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности…» — Иди домой, — сказала она. Сняла с шеи маленький ключик. — Увидишь у меня в квартире кофр. Найдешь доказательство. Поверишь. — Она вдавила ключ мне в ладонь, сжав мои пальцы в кулак для пущей сохранности. Когда наши губы встретились, рот ее был влажным. Потом она меня прогнала.
v
В «Пигмалионе» ни души. Двери кабинета закрыты. Накрашенные губы Жанель коснулись глубокой морщины на лбу Саймона. Она слегка дотронулась до него отполированными ногтями:
— Я просто говорю правду, и мы оба знаем, что это правда.
— Это не значит, что нет других соображений. Возможностей, которые мы не имеем права списать со счетов. Очень мало времени прошло, Жанель. Она могла говорить.
— Хочешь сказать, она могла писать.
— И это тоже. — Он смотрел на нее снизу вверх из директорского кресла, которое она не так давно ему купила. — Так или иначе, это важно.
С высоты стола, на котором сидела, она погладила его по голове:
— Ненавижу, когда ты впадаешь в сентиментальность.
— Есть здравые деловые соображения…
— А если бы их не было? Что тогда? А если бы я тебя бросила? У тебя не хватило бы даже средств выкупить мою долю.
— Выкупить твою долю?
— У меня есть здравые деловые соображения делать деньги где-нибудь в другом месте. Ты выстроил самую большую галерею в Сан-Франциско, и тебе едва хватает произведений искусства, чтобы ее заполнить, не говоря уже о покупателях, которые за них бы заплатили. Что же касается финансов, мне следовало сбежать со всей наличностью, которую удалось бы прихватить, еще вдень твоей свадьбы.
— Если ты ненавидишь сентиментальность…