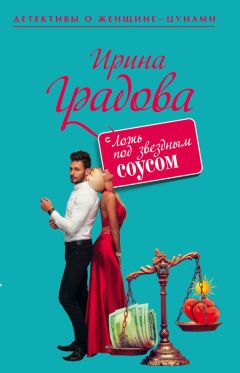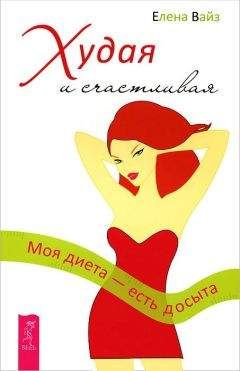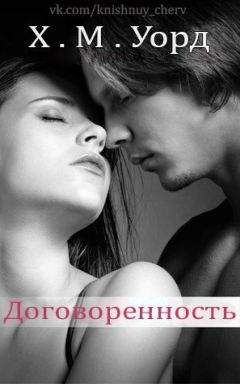Людмила Павленко - Рок пророка. Второе пришествие
Он обратился к остальным четверым:
— Послушайте, ребята и… хм… девушки. Объясните мне, глупому, как долго мы должны скрываться? Ведь не всю жизнь? Если я правильно понимаю ход событий, то, как только начнётся их Глобальный Проект, то есть, как только он вступит в решающую фазу, им уже будет не важно, кто ещё о нём знает. Ведь так? Им ведь важно, чтобы никто ничего не заподозрил раньше времени и не сорвал преждевременной оглаской, не взбудоражил, так сказать, мировую общественность. Но, если так, то как только Мессия появится на всех этих огромнейших экранах по всему миру — нам гарантирована неприкосновенность. Потому что мы, как тот неуловимый ковбой из анекдота, никому на хрен не будем нужны. Прошу прощения у дам за слово «никому». И как? Я правильно всё понимаю?
— За исключением одного, — поправил Сергей, — мы не имеем права позволить этому Проекту вступить в решающую фазу.
— Но почему? — удивился Харламыч, — пусть.
— Во-первых, не известно, кто явится в теле Христа. Ведь, может статься, что и Антихрист. А, во-вторых, даже если это и впрямь именно Он, то это тоже небезопасно — под прикрытием авторитета Мессии грешные люди могут много чего натворить.
— Он же Мессия. Он им не позволит. Отделит зёрна от плевел.
— А вот вы сами куда попадёте? — съехидничала Гончарова, — в зёрна или же плевелы?
— А, — махнул ручкой Казимир Харламович, — я только пешка. До меня дело не дойдёт. Кому я нужен? Меня Мессия и в микроскоп не разглядит.
— А дьявол?
— Дьявол и подавно. На кой ему такая мелочь? Ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Чем и горжусь. Что толку высовываться? Многие навысовывались. И где они теперь? А я вот ползаю. Гажу на нашу грешную землю. Кстати, земля-то наша, в самом деле, вся грехом пропиталась. Кровушкой пролитой до самого ядра. Не кажется ли вам, мои попутчики невольные, что живём мы на самом деле не где-нибудь, а именно в аду? Ведь и в святых писаниях сказано, что нами правит дьявол. А где он правит? В Преисподней. И вот мы там. Ссылают сюда с небес самые грешные и заблудшие души и макают мордой в дерьмо. Разве не так? Вон, смотрите, какой пожар раздули! Всё в огне и дыму. А если бы мы были там? Вот то-то! Где ещё возможно такое — чтобы людей сжигать напалмом? Только в аду.
— Нет, милый мой, — возразила Гончарова, — жизнь — это школа.
— На крови? Ведь здесь все жрут друг друга. В прямом и переносном смысле. Вы только вдумайтесь — ведь каждый день на земле льётся кровь. Каждый день! Да что там — каждую минуту. Режут баранов и свиней. Стреляют зайчиков и белочек. Рыбку ловят. Она, бедняга, трепыхается, ловит ртом воздух, умирает, а рыбак торжествует: поймал! В супермаркет зашёл — там раки ползают живые в таком аквариуме огромном. Налетай, покупай, деликатес. Их, небось, в кипяток живыми бросят. И что, это — не ад? Чего ханжите и придуриваетесь? Сами себе мозги запудрили — и живёте, не тужите. Вы только гитлеров видите, да чикатил, а свои брёвна в глазу не замечаете. Вы все белые да пушистые. А шашлычок-то вкушаете.
Колбаску жуёте да нахваливаете — ай, как вкусненько, жирненько. А то, что бедные животные жизнь отдают за то, чтоб вы набили брюхи — об этом вы не думаете!
— А вы?! — воскликнула Елизавета, — вы что же, вегетарианец? — Я — нет, — торжественно провозгласил Харламыч, — так ведь я и не лезу в святые. Честно и откровенно заявляю: я есть прислужник всех нечистых. И мы все тут живём, как нам брюхо велит. Разводим скот, чтобы потом его прирезать и сожрать. А кое-кто и криминала не чурается. Вот Раскольников у Достоевского спрашивал себя: «Я тварь дрожащая или право имею?» Решил, что имеет. И тюкнул топором старушку. Это что — тоже школа? Чему мы можем обучаться, когда кругом одна несправедливость? И кто несправедливее — тот и благоденствует. Вон, понастроили — махнул он рукой, указывая на особняки на противоположном берегу Волги, — и ничего! Живут себе и наслаждаются. И правильно. Урвал кусок себе в этом аду — чавкай, да помалкивай. А то — «школа»! Рассказывайте сказки.
— А я ещё раз повторяю — жизнь — это школа, — настаивала Гончарова.
— А я ещё раз повторяю свой вопрос, — горячился Черноморов, — почему на крови?!
— А потому что вы иначе не поймёте!
— Ах, вот даже как!
— Да, так! Положа руку на сердце признайтесь — то, что мы получаем безо всяких усилий, мы не ценим. И только потеряв, мы начинаем осознавать, какое счастье привалило, а нам умишка не хватило удержать его. Трудности и несчастья, если не убивают нас, то делают сильнее. Причём, мы знаем это превосходно! И всё равно — пока гром не грянет… Пока на собственной шкуре не почувствуем… В общем, вы понимаете.
Она немного помолчала и затем продолжила с такой убеждённостью, что все невольно вслушивались в этот страстный монолог.
— Я знаю, верю, что Бог есть! Я получаю знаки и свидетельства того, что меня ведут по жизни. И ведут с любовью. Но и учат жестоко, если я проявляю своеволие. Но толпа своевольна всегда! Отсюда — кровь. Чтоб содрогались сердца. И чтобы не хотели повторения содеянного ими по тупоумию своему и агрессивности. Если какой-то козёл ведёт нас на бойню, то мы не должны идти туда покорно, как бараны. Вот ведь какая олицетворённая метафора, созданная самим укладом человеческой жизни. Будет жизнь чище, а помыслы выше — и уклад поменяется, и метафоры будут другими. Но человечество должно всё пропускать через сердце. А потому игрушки взрослых не деревянные, а из плоти и крови. Мы обучаемся, как дети, через игру. И нашу жизнь я называю, как и Шекспир, театром. Театром Тайны.
— Блаженная вы наша, — хмыкнул Харламыч, — весь мир для неё, видишь ли, театр. Заигралась. Так театр или школа? Уж выбрала бы что-нибудь одно.
— А театр — он и есть школа! Но только для особо одарённых! — вскипела Гончарова, — для тех, кто жаждет воспитания чувств, в ком есть потребность самосовершенствования. И взгляд на жизнь, как на театр, у меня вовсе не оттого, что я полная дурочка, а потому что я театр приемлю только по формуле «до полной гибели всерьёз». Вот такой театр для меня — школа воспитания чувств. А не тот, где кривляются и лгут каждым словом, каждым жестом. Да, жизнь жестока и несправедлива! Да, в ней гибнут в первую очередь беспомощные и невинные. Да, признаю, что это всё — подлинный ад! Но он создан для того, чтобы души омылись слезами и смыли с себя грязь, агрессию и чёрствость.
— Господи! — воскликнула вдруг она, — прости нас, грешных за то, что мы ищем тебе оправданий! Каждый художник, в какой бы области искусства он ни творил, всегда желает обелить Бога в глазах людей. Мы наблюдаем эту жизнь — порой чудовищно бессмысленную и несправедливую — и не можем поверить в то, что Бог именно так её замыслил и уготовил именно такую участь всему живому — смерть, небытие. Мы ищем утешения. Мы ищем оправдания действиям Бога. Я для себя почти нашла. Этот кровавый Театр Тайны лишь потому и существует, что мы ещё не созданы. Бог нас слепил из глины, но не довершил работу. Потому что он взял нас в помощники. Нам, полусотворённым, предоставляется уникальная возможность. Мы с Ним должны работать бок о бок. Должны стать Со-Творцами своей же собственной души.
Она словно бы выдохлась, выпалив этот монолог, и теперь молча смотрела на огонь, полыхающий там, внизу, в долине. Объятое пожаром здание архива находилось в конце городской набережной, совсем недалеко от центра города, который отсюда, с невысокого холма, был виден весь, как на ладони. Ещё горели фонари, а кое-где мелькал и свет в окнах. Там либо уже встали ранние пташки, либо ещё не ложились бессонные «совы».
И вдруг над городом, на северо-востоке, где-то в Заволжье, возник зелёный яркий луч. Возник и пропал.
— Что это было? — ахнула Елизавета.
И как будто в ответ полыхнуло уже на полнеба! Теперь мерцало и переливалось ослепительно-яркое свечение всех цветов радуги. Словно прозрачную светящуюся ткань набросили на небеса.
— Началось! — прошептала Гончарова.
— Что это? Что это? — кричал Харламыч срывающимся голосом, — это что происходит? Тарелка? Инопланетяне? Что-о-о?!
— Да замолчите вы! — прикрикнул на него Сергей.
Свечение неслось по небу, словно цунами по воде. Так же вздымались волны, с одной лишь разницей — то были волны бликов всех цветов радуги. А гребни светились яркой белизной. Но потом произошло нечто и вовсе невообразимое: медленно-медленно по небесам проскакал огромный всадник на белом коне. Это был рыцарь в чёрных доспехах и белых перчатках с раструбом. В руках у него были поводья, а позади, прижавшись к спине рыцаря, сидела дама в чёрном длинном платье под черной же кружевной вуалью. Рыцарь, словно прощаясь с землянами, поднял правую руку и скрылся за горизонтом.
— Это же всадник Апокалипсиса на бледном коне! — заорал Казимир Харламович.
Он упал на колени и начал исступленно креститься и бить земные поклоны.