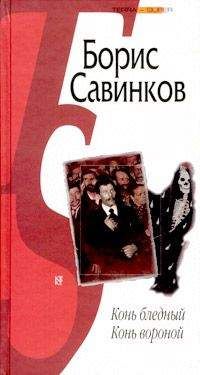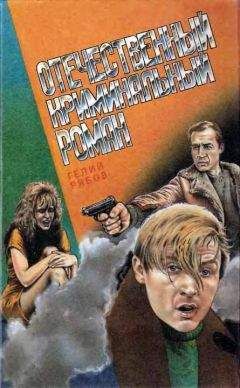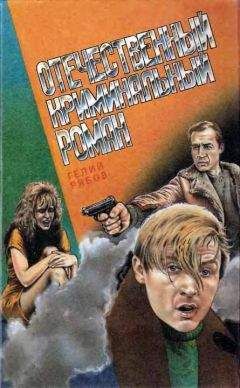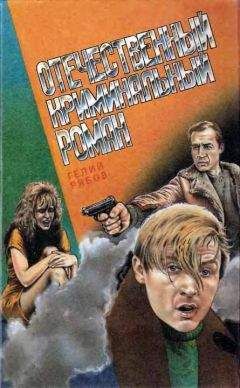Гелий Рябов - Конь бледный еврея Бейлиса
- А куда девался из текста Бейлис и навет на нас, то есть еврейский народ? Я не имею согласия! - выкрикнул Гринштейн. - Говорили-говорили, а вышел пшик!
- Ты местечковый идиот, Гринштейн, а не чекист! - белея, процедил Блувштейн. - Неужели непонятно? То, что мы "слушали", - это "совершенно секретно"! Это только для ВЧК! А то, что "постановили", - это распубликовывается во всеобщее сведение, ты понял? Наша объективность и беспристрастие не должны иметь сомнения в массах! Всем уяснено?
Молча поставили подписи. Блувштейн рассмеялся:
- Я только хотел сказать, товарищи, что какие мы евреи? Забудьте! Мы прежде всего ленинцы! Большевики-коммунисты, товарищи!
Арестованных доставили в гараж, строение располагалось в глубине сада, - кирпичный домик с оштукатуренными стенами. Чеберякова затравленно обвела глазами грязные, испачканные бурыми пятнами стены.
- Кончать станете? - В блеклых глазах равнодушное отчаяние, на миловидном лице, еще сохраняющем отзвук былой красоты, серая маска смерти.
Розмитальский - статный старик в заношенном черном сюртуке, прислонился к стене, видно было, что держится из последних сил и вот-вот упадет. Только Галкин- стареющий идеолог "Двуглавого орла", вел себя подчеркнуто независимо. Смерив чекистов презрительным взглядом и сделав резкий жест правой рукой- будто отшвыривал, произнес непримиримо-ненавистно:
- Я ведь предупреждал тогда! Я предупреждал! Я сказал: у евреев на Лукьяновке собираются раввины и революционеры! Темная революционная партия! Они убили Андрюшу Ющинского и выпили его кровь! Маца Гезир1, маца Гезир вот была их цель! Они нажрались этой мацы и сделали революцию, и вот, торжествует Израиль! Бедный мальчик, несчастный мальчик. Родина моя, ты в крови невинной, и вот - 6662!
- Привяжите женщину, - негромко распорядился Блувштейн. Сощурив глаза, наблюдал, как привычно-ловко коллегия городской ЧК выполняет приказ (больше некому было, обслугу и красноармейцев отправили, не для простых глаз существовал этот гараж). - Чеберякова! Мы все равно вас расстреляем - я честный человек и никогда здесь, в этом святом месте правосудия, не лукавлю! Но если вы сознаетесь. Если же нет - мы вас заставим, и вы будете иметь хуже! Я жду ответа...
- Не виновата! Не виновата ни в чем! - мотала головой, словно загнанная лошадь, пена пошла.
Самуил Цвибак подошел с клещами, зацепил ухо.
- Рано пенишься, красавица... - И сладострастно рванул.
Она закричала дико, страшно и тяжело повисла на ремнях.
- Сволочи, жиды, - хрипел Галкин. - Мало громили вас, мало резали, мало жиденятам вашим бошки об кирпич расшибали, я знал, знал - вы всему голова, вас надо было, вас...
Шуб поймал холодный взгляд начальника, подошел и не целясь выстрелил Галкину в лицо. Вышибло мозги, они хлестнули по штукатурке, растекаясь студенистой розовой массой.
- И этого, сухенького, - сипел Блувштейн.
Второй выстрел свалил Розмитальского. Между тем Чеберякова пришла в себя.
- Что же... мучаете... - захлебывалась, давилась, с трудом выплевывая невнятные слова. - Ничего дурного... не делала... Все как есть... объясняла... Граждане, да у меня теперь муж, рабочий, коммунист, Петров1 его фамилия, вы помилосердуйте, граждане, я никогда... против вас... ничего не имела...
- К тебе ходили воры... - бубнил Шуб, приникнув к уху Веры. - Они ведь зарезали Ющинского, они?
Цвибак рванул клещами другое ухо, кровь брызнула в лицо; утираясь, терял самообладание, свирепел.
- Говори, говори, стерва! - Рвал клещами, уже ничего не соображая. У-у-убью-ю-ю...
- Готова... - приблизился Блувштейн. - Роняешь себя, товарищ Цвибак, вернемся в Киев - я тебе, пожалуй, на снабжение поставлю, ты не владеешь обстоятельствами... Вы ее вместе с мужем привезли?
- Так точно, - Цвибак словно выбирался из сна. - Ждет на улице...
- Ступай скажи, что вина ее доказана полностью, что, мол, кончено все. Только без этих штучек, Цвибак! Без лишних слов и подробностей. Скажи: если товарищ Петров имеет несогласие - пусть обратится к ПредВУЧКа товарищу Лацису! Занавес истории над этим делом закрыт навсегда! Проклятое прошлое кануло в Лету - я знаю, почему не в Зиму? Но это уже не наше дело, товарищи...
Взгляд Блувштейна неуловимо изменился, черно-бездонные глаза исторгли безумие, заражая и без того ошалевших от выстрелов и крови сотоварищей уже не сумасшествием, а чем-то гораздо более страшным, древним, не поддающимся смыслу, но лишь той вечной воле, которая некогда правила миром и теперь продолжала править - не менее цепко и яростно. Из горла вырвался крик на высокой, невозможно высокой ноте - такую и Собинову не взять; руки взметнулись к потолку, пестревшему ярко-красными, еще не успевшими потемнеть пятнами, пальцы разлетелись и затрепетали, будто перебирая струны невидимой гитары, и, подчиняясь вдруг откуда-то пришедшему ритму, кожаные куртки окружили председателя и, стекленея глазом, восторженно повторили и звук, и движение. А ритм нарастал, ширился, и сапоги выбивали по каменным плитам немыслимую дробь, и прежний, давний, вроде бы забытый напев раздвинул стены и вырвался на волю...
Красные уходили из города, грузились на баржи - помятые, обтрепанные, в кровавых бинтах и кровавых делах. Понуро брели сквозь молчаливую и ненавистную толпу, сгрудившуюся на тротуарах. Из редкой телеги не торчала труба граммофона, шикарный обывательский сундук или дорогая портьера, сорванная наспех с буржуйского окна. Исхудавшие лошади, рваная веревочная сбруя; не лица - пятна. Тонкая пыль висела в теплом еще воздухе, оседая на потных гимнастерках и потертых стволах утомившихся бойней пушек.
А на другой день застучали по мостовой новенькие подковки гуцульских войск в неведомой русскому глазу шелестящей, не изношенной еще форме и следом трепыхнул над оборванными синими жупанами и вытертыми смушковыми папахами, из-под которых торчали не то чубы, не то грязные клочья волос, жовто-блакитный петлюровский флаг.
- Слава! - орали неслаженным хором и крестились истово на купола. - Ще не вмэрла Украина! Незалежна, незаможна вильна ненька!
И еще день провалился в небытие, и под ликующие крики растеклись по замордованным улицам золотопогонники Деникина. Нестройны ряды, дробит нога, равнодушны лица и пусты глаза - ничего не осталось от молодцов Императорской армии. Но экстаз толпы безграничен: "Единая и неделимая Россия!" И никто не знает, что все уже предрешено...
...Тихая улочка, особняк миллионера Решетникова1, тенистый сад и там, среди зелени, серая масса пыточного гаража. Выбитые зубы, сваренные в чугунном чане конечности, волосы, выдранные с корнем, и мозги - засохшие и слегка подвяленные, с оплывшими фессурами2. Сад- сплошная могила. Раскапывают добровольцы, зажимая рты и носы платочками, и - трупы, трупы... Сотни трупов. Найдены Галкин и Розмитальский. Но Веры Чеберяк нет, она исчезла, и потерянный, расхристанный муж, большевик Петров, тщетно ищет сочувствия у бледных офицеров.
- Что? - пытается вникнуть один. - Чеберяк? Это та? По делу этого еврея?
- Бейлиса, - подсказывает Петров. - Она не виновата, поверьте!
- Мне плевать! - отмахивается офицер. - Грязная история! Вы лучше посмотрите, что натворили комиссары! - и снова взгляд на мечущегося человечка. - Оставьте. Эта гадость закончена. Суд истории свершился!
Петров долго молчит, провожая равнодушными глазами носилки, их выносят солдаты, и лица у них словно присыпаны мукой. Трупы - сплошное месиво; искорежены руки и ноги, пробиты тела, остатки одежды в заскорузлой крови, и запах - нет, не тлена; запах разложения и гибели.
И дикий крик разносится над садом:
- Ве-ра! Ве-е-роч-ка... Ты не виновата! Ты ведь ничего, ничего не знала! Ни-че-го-о-о!
Заканчивался день, 1 сентября 1919 года...
Послесловие автора
Суд над Бейлисом начался 25 сентября 1913 года (ст.ст.), в 14.30, в здании Присутственных мест на Софийской площади - оно как раз за спиной "спасителя" Украины, Богдана Хмельницкого, "москальского запроданца", как называли его многие и тогда и сейчас. Я видел старую черно-белую хронику: три жандарма в серых шинелях и бескозырках с кокардами, усатые, улыбающиеся, стоят на пригорке, окружив плотным кольцом человека небольшого роста в черном пальто и такого же цвета котелке - Бейлиса. Мендель тоже улыбается изо всех сил, но и позировать кинооператору ему приятно, это видно. Черная борода и такие же усы охватывают его круглое лицо траурным кольцом. Пейсы не заметны, наверное, они органично вписываются в бороду, сползая по щекам. За спиной "мирового" преступника белые домишки, под ногами - немощеная земля. Видимо, по просьбе "кино", Бейлиса ведут в суд (а может быть, и на допрос) пешком, и делают это специально, чтобы как можно больше простого люда увидело супостата христианских младенцев и, озлобившись, повлияло на общественное мнение, а значит, и на присяжных, позже...
Процесс продолжается ровно месяц и три дня. Перепуганные, лепечущие свидетели показания дают приблизительные, малозначимые, даже косвенных доказательств виновности Бейлиса нет; чеканно выстраивают свою линию прокурор Виппер, поверенные гражданской истицы (матери Ющинского) Шмаков и Замысловский. Эти известные всей России юдофобы, принципиальные, бескомпромиссные борцы с "жидовским засильем", люди, несомненно образованные, в предмете великолепно разбирающиеся. К тому же и умные, они это доказывали не раз и не два1. И вот, в мягко нарастающей бессмыслице (ведь Бейлис невиновен, это очевидно!) начинает угадываться, а потом и высвечивается огнем негасимым священная задача: доказательно обвинить еврейство, весь народ Израиля в исторически присущей ему, народу, бесчеловечности, лютой злобе, кровавой устремленности к господству над Миром, над всем человечеством...