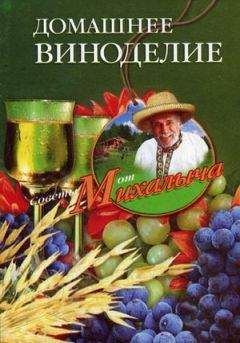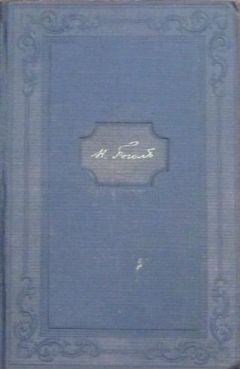Николай Спасский - Проклятие Гоголя
И тут случилось непредусмотренное. Гремин стал оседать, теряя сознание. Священник отвел руку с конвертом в сторону, чтобы не помялся, а Гремин все сползал и сползал на него. Отец Федор хотел отшвырнуть Гремина, как собаку, – и почувствовал адскую боль. Золингеровское лезвие, которое Гремин все время прятал в рукаве, вспороло отцу Федору живот, и его тело с тяжелым стуком повалилось на пол.
Гремин едва стоял на ногах, боясь окончательно потерять сознание. Он из последних сил наклонился, поднял пистолет и выстрелил отцу Федору в рот. Глаза умирающего распахнулись, переполненные не страхом, не ужасом, а животной, бешеной ненавистью, ненавистью бессилия.
– Аминь, – произнес Гремин. – Да простит тебя Господь. Да простит тебе прегрешения твои. Да упокоит грешную душу твою. Аминь.
Ему послышалось, что откуда-то, из крипты, чей-то голос на итальянском языке глухо повторил:
– Аминь!
ГЛАВА 19
Когда утром открыли врата Сан-Джованни ин Латерано, возле алтаря лежал труп мужчины лет шестидесяти в облачении францисканского монаха. Поодаль валялся окровавленный нож. Смерть наступила в результате резаной раны брюшной полости и выстрела в голову. Об этом сообщили газеты.
Но Гремин газет не читал. Да Гремина вообще уже не было. Был студент, молодой, с саквояжем, в рубашке в клетку на американский фасон и в дешевой курточке, неоднократно стиранной, в грубых башмаках на толстой подметке. Так одеваются в Германии или Скандинавии. Единственное, что могло привлечь к нему внимание, – неестественная бледность лица да некоторая скованность движений. Он слегка прихрамывал и, по-видимому, ему доставляла боль правая рука. Саквояж он нес в левой.
Едва ударило десять часов, молодой человек появился у входа в Германский археологический институт, что на вия Сардиния. Хорошенькая девушка, секретарша, веснушчатая блондинка, явно не ожидала увидеть столь раннего посетителя.
– Вам что, господин? Студент застеснялся.
– Извините меня, ради бога, прошу, простите за беспокойство. Я проездом в Риме. Уже сегодня после обеда мне нужно переезжать в Перуджу, там у меня курсы. Я понимаю, что требуется записаться заранее, но я только вчера приехал.
– Чем я могу помочь вам? – спросила девушка.
Несмотря на робость, в голосе и во взгляде молодого человека что-то приковывало ее внимание. Какой-то магнетизм, внутренняя энергия.
– Моя мечта – хоть одним глазком увидеть фонды, посвященные назарейцам, – заволновался молодой человек, – это тема моей дипломной работы. Я их обожаю! Если бы можно было оформить временное разрешение, мне нужно хотя бы полчаса. Под вашим надзором, как угодно…
Девушке странный посетитель нравился все больше и больше. Ее симпатичные полненькие щечки порозовели, глаза заблестели. Она незаметно откинула рукой волосы и привстала, обнаружив приятную тяжесть хорошо сформированного бюста:
– А вы кто, простите? Немец?
– Да, немец, – сразу перешел на немецкий посетитель. – Я из Эльзаса. Всю свою жизнь, если не считать войну, я прожил под французской оккупацией. Можете представить?
Он искательно заглянул в девичьи глаза. Девушке было трудно разделить энтузиазм молодого человека. Ее принадлежность к немецкой расе выражалась в том, что ее отец, аспирант Ла Сапьенца, женился на хорошенькой фрейлейн, дочке директора Германского археологического института. И вот их дочь, итальянка до мозга костей, неважно говорящая по-немецки, раз в неделю, по субботам, помогала на приеме посетителей в институте. Она охотно подыграла своему нечаянному собеседнику.
– Я тоже немка, как вы догадываетесь! У меня мать немка.
– Замечательно, мы с вами соотечественники. Ребенком я изучал немецкий язык фактически тайком. Это сказывается на моем произношении…
В институт было не принято пускать первого встречного с улицы. Но девушке определенно нравился этот молодой человек с его горячностью, и ей не хотелось с ним расставаться
– А у вас есть какой-нибудь документ?
– Да. Вот мой студенческий билет.
– Оставьте его здесь.
Она пробежала данные глазами: обычный студенческий билет, точнее, билет аспиранта Кельнского университета, по факультету истории искусств. Ганс Кюхельгартен. Мм, Ганс. Немодно, конечно, но ничего.
– Фонда Товарищества назарейцев как такового у нас не существует. Товарищество никогда не имело четкой организации, выборных органов. Не было и архива. Но я надеюсь, вы не разочаруетесь. Материалов хватает. Почти все назарейцы состояли членами института и регулярно посещали наши мероприятия. Сейчас я вас проведу в хранилище основных фондов.
– Спасибо огромное. Я разберусь.
Девушка провела гостя в хранилище. Тот скромно поставил свой саквояж в уголке и радовался, как ребенок, гладя руками шершавые коробки и вскрикивая: «Боже, надо же, не может быть!», когда натыкался на имена: Овербек, Корнелиус… Что-то он снимал с полок, что-то открывал, над чем-то застывал. Лучана, так звали девушку, решила на час-полтора оставить его одного. Пусть поиграется…
Удостоверившись, что за ним не следят, студент совершенно переменился.
Он направился к старинному шкафу, выкрашенному в несколько слоев черным лаком. Шкаф состоял из квадратных ящичков, каждый из которых был обозначен буквой латинского алфавита: А, В, С… Это был общий алфавитный указатель Германского археологического института.
Молодой человек выдвинул ящичек с буквой «С». Внимательно перебрал бумажные карточки.
Нужного не нашел, но ничем не выказал раздражения. Опустился на колено, слегка скривившись от боли, вытянул ящичек с буквой «Т». На сей раз поиски увенчались успехом. На карточке из плотной светло-коричневой бумаги размером с визитку было аккуратно выведено фиолетовыми выцветшими чернилами крупными псевдоготическими буквами, хотя и на итальянском языке: «Colonnello Al. Tschertkow». Следующей строчкой следовало обозначение архивного дела, цифра и буква. Скорее всего, номер стеллажа и номер полки соответственно. И наконец, третьей строчкой значилось: «Sul registro („Alessandro Certkoff“) in data 12 e 19 aprile 1839».
Даже для очень хорошо образованного человека, если он не исследовал историю русской колонии в Риме в первой половине XIX века, имя Александр Чертков едва ли что-либо сказало. Однако специалист по творчеству Гоголя мог припомнить, что под фамилией «Чертков» Гоголь вывел талантливого художника, попавшего в сети дьявола и затем обезумевшего – в первой редакции своей повести «Портрет». Правда, во второй редакции фамилию «Чертков» писатель переиначил на «Чартков». В кругу друзей ходил слух, что Гоголь произвел замену, дабы не обижать своего хорошего приятеля, известного археолога и нумизмата полковника Александра Черткова. Но об этом, очевидно, не имел ни малейшего понятия молодой студент-немец.
Молодой человек проверил имя «Чертков» по журналу посещения мероприятий института и удовлетворенно хмыкнул. И снова углубился в леса стеллажей, пока не нашел коробку, обозначенную интересовавшими его буквами.
У студента дрожали ноги, он придвинул поближе единственный стул, сел, сдул пыль с коробки, снял крышку. Сверху лежал старый, потертого сафьяна маленький портфель. Поблекшего малинового цвета. Студент открыл его.
В первом отделении хранилось письмо Черткова ученому секретарю института, в оригинале, написанное на французском языке и датированное 1 мая 1840 года. Этим письмом полковник препровождал перевод доклада директора музея города Керчь, что в Крыму, посвященного нумизматическим находкам на полуострове. К тексту была приколота тусклая карточка такого же цвета и формата, как в алфавитном указателе, с краткой информацией, набитой слегка скачущими буквами первых пишущих машинок – немецкой «Ундервуд» начала века или чего-то в этом роде: «Опубликовано в Анналах Института археологической корреспонденции, том XII, 1840, стр. 5». Молодой человек заложил свою находку обратно.
Во втором отделении он обнаружил оригинал документа, поискам которого посвятил последние месяцы своей жизни. Студенту не нужно было вчитываться в текст, чтобы проверить себя. Это был тот же самый документ, на старинной бумаге, с архаичной каллиграфией.
Студент вынул из саквояжа помятую бледно-зеленую корочку. В ней лежали два документа или, точнее, документ и копия, хотя оба относились к прошлому веку, судя по толщине и шершавости бумаги, по ее желтизне, по выцветшим чернилам. Он перебрал страницы оригинала. Ему явно не хотелось расставаться с этими листками бумаги. Он посидел в задумчивости, потом встряхнул головой. Видно, решил в последний раз перечитать.
Текст гласил:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Мы нижеподписавшиеся, маркиз Сильвио Альбернони, землевладелец, и Жан Доменико Аннони, адвокат, находясь в здравом уме, твердой памяти и добром здоровьи, свидетельствуем.
13 февраля 1843 года поздно вечером мы возвращались домой после партии в карты. Особняк Альбернони, как известно, находится на виа Грегориана, а адвокат Аннони снимал этаж в палаццо Летта на вия Дуэ Мачелли. Вечер выдался великолепный, дождя не обещало, поэтому мы отпустили экипажи и решили прогуляться. Проходя по вия Сан Никола да Толентино мимо давно заброшенной и забитой досками церкви Санта Лючия, мы услышали странные звуки, как будто внутри кто-то кого-то колотил и кто-то звал на помощь. Мы прислушались, из церкви на самом деле раздавались крики о помощи. Мы стали стучать в дверь, но она не поддавалась. Не иначе как люди, находившиеся в церкви, проникли туда с другого входа. Наконец с помощью наших тростей мы отодрали доски и вступили внутрь. В церкви никого не было, лишь на алтаре стояла полусгоревшая свеча. Все было покрыто пылью и затянуто паутиной. Мы поспешили на звук голосов.