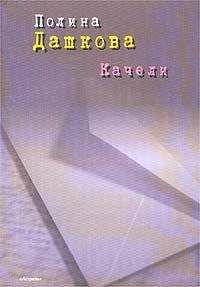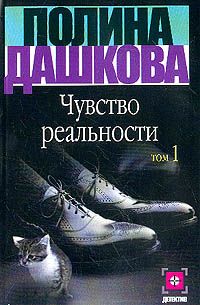Полина Дашкова - Продажные твари
В неверном предрассветном свете он видел кровавое пятно на тонкой шее, мертвенно-бледное перемазанное лицо, прикрытые глаза Маши. Вдруг ему показалось, что длинные угольно-черные ресницы чуть вздрогнули. Он стал быстро искать пульс на тонком запястье, не нашел, припал ухом к левой стороне груди и услышал слабый стук сердца.
— Ой, мама родная! Да она жива! Что же я, дурак, сижу!
Выхватив бинт из походного набора, Игорь содрал плотную обертку из вощеной бумаги зубами.
— Вадим… — тихо, отчетливо произнесла Маша.
— Эй, открой глаза! Ты меня слышишь? — Игорь приподнял ей голову и стал бинтовать шею. Теперь он понял — нож только ободрал кожу.
— Я что, жива? — удивленно спросила Маша, открывая глаза.
— Конечно. Он тебя только поцарапал, — весело сообщил Игорь.
— Где Вадим? Вы нашли его?
— Нет, — Игорь понял, что она спрашивает о втором заложнике.
— А Ахмеджанов? — Маша поднялась на ноги. — Ахмеджанова поймали?
— Смылся. Но далеко не уйдет. Слушай, как твоя нога? Это ведь я тебя подстрелил, по твоей просьбе.
Он собирался задрать штанину шортов, на которой зияла дыра от пули, и посмотреть, не задета ли нога. Но ему стало неловко, все-таки она — девчонка. Даже сквозь слой грязи на лице видно, что очень симпатичная.
— С ногой все нормально. Ты только штанину прострелил, даже кожу не задел. Пожалуйста, пойдем скорее. Вадим там, у камня. Это совсем недалеко.
«Может, он жив», — хотела сказать она, но не решилась, запнулась, будто боялась сглазить, спугнуть внезапную шальную надежду.
Дорогу Маша, конечно, не помнила, шла наугад. К поляне вышли только через полчаса. Маша сразу узнала это место и застыла как вкопанная: у камня никого не было.
— Он исчез, — прошептала она, — он лежал здесь.
— Наверное, встал и ушел, — осторожно предположил Игорь. — Его как дух вырубил? Ножом?
— Нет, головой о камень ударил.
— Ну, это пустяки. Видишь, какой здесь мох толстый. Удар смягчило, вырубился твой Вадим, а потом встал и отправился тебя искать. Оклемался он, точно оклемался. У меня был такой случай…
И тут Маша расплакалась, горько, навзрыд, по-детски шмыгая носом.
— Ну ты что? — смутился Игорь. — Эй, кончай реветь. У тебя ссадина здоровая на горле, закровит!
Плечи ее крупно и быстро вздрагивали, она опустилась в траву, уткнулась лбом в мягкий мох, которым порос камень. Слезы катились ручьем, она рыдала в голос и не могла остановиться.
Защелкало переговорное устройство.
— Пятый, Пятый! Что там у тебя? Где ты?
— У меня все нормально, — ответил Игорь. — Жива заложница, только рыдает. А второй заложник куда-то делся. Судя по всему, тоже жив. Какие указания, товарищ капитан?
— Ну какие указания? Приводи ее в чувство и дуйте к дороге. Там у штабной палатки фельдшер дежурит. Как, дойдет она сама?
— Не знаю, — пожал плечами Игорь, — попробую довести.
— Ладно, Игорек. Если чеченца увидишь, стреляй на поражение, не геройствуй. Он где-то близко бродит. И еще трое, по нашим сведениям, ушли. Так что гляди, осторожней. Все. Конец связи.
Вдали послышалось несколько коротких очередей.
— Кончай истерику! — строго сказал Игорь и поднял Машу за локти. — Вот выйдем из района боевых действий — и рыдай себе на здоровье.
Маша встала и вытерла слезы кулаками.
— Ты думаешь, если человека ударили затылком о камень, он может выжить?
— Маша, — вздохнул Игорь. — Ну если он встал и ушел, значит, выжил. Вот у меня был такой случай, еще на гражданке, в десятом классе…
— Ты, Мария Кузьмина, в рубашке родилась, — заметил военный фельдшер, разматывая бинт у Маши на шее и осматривая рану, — еще бы чуть-чуть, и задело артерию. Первый раз такое вижу, чтоб лезвие по касательной прошло, — он стал осторожно промывать рану, — да не дергайся ты, это ж фурацилин, он не щиплет. Голову выше подними. Сама-то откуда?
— Из Москвы.
— И как тебя угораздило к самому Ахмеджанову в заложницы попасть?
— Сама удивляюсь, — попыталась улыбнуться Маша, — я вообще-то отдыхать приехала.
— Хорошо небось отдохнула? — покачал головой фельдшер. — Ты при разговорах рот-то не шибко разевай. Я ж тебе бинтую, а ты мешаешь. Ну вот, порядок, — он закрепил повязку, — пару дней так походишь, а потом пусть на воздухе заживает. Зеленкой смазывай. Даже красиво будет. Рана не глубокая, чуть-чуть по коже садануло.
— Как вы думаете, шрам останется? — спросила Маша.
— Шрам! Ничего не останется, до свадьбы заживет. Шрам! — фельдшер усмехнулся. — Едва жива осталась, а из-за такой ерунды беспокоится!
— Я не беспокоюсь… Просто… Из зеленой штабной палатки послышался треск переговорного устройства.
— Ока! Ока! Я Пятый! — весело заговорило устройство. — Как слышите? Прием? Где вы там? Василич, прием!
Фельдшер взял микрофон.
— Я Ока, слышу тебя хорошо. Ты, что ли, Игорек?
— Я, Василия, я. Нашелся второй заложник! Жив-здоров, участвует в поисках. Скажи там барышне, чтоб не рыдала больше.
— А самого-то нашли?
— Нет пока. Все, Василия. Конец связи.
— Слышала? — спросил фельдшер Машу, вошедшую в палатку вместе с ним. — Теперь уж все. Ушел он, бандитская морда. Ищи-свищи его, хоть все горы носом изрой.
— Неужели не найдут?
— Считай — все. С концами, — кивнул Василич, — там, говорят, еще трое бегают. Вот их, может, и поймают. А Ахмеджанов, он словно заговоренный.
Вдали застрекотали вертолеты. Они вышли из палатки.
— Это подкрепление? — спросила Маша.
— Какое подкрепление! Сейчас покружат над горами — и назад, на базу. Там уже небось местное правительство рвет и мечет, протесты в Москву шлет. Официальные.
— Почему протесты? — удивилась Маша. — Здесь же и так наши войска стоят… Ведь не для того, чтобы в море купаться?
— Одно дело — войска, другое — боевые операции, — стал объяснять Василич, но шум двух вертолетов заглушил его слова.
Два военных вертолета летели совсем низко, прямо над головой. Винты рассекали воздух, поднимая ветер, отчего трава стелилась к земле, трепетали и хлопали брезентовые стенки палатки. Сильная струя ударила в лицо, Маша зажмурилась. А когда открыла глаза, перед ней стоял Вадим…
Фельдшер, взглянув на них, хмыкнул иОтошел в сторонку, к закопченному походному керогазу. Он успел приготовить чай, выкурить папиросу и, наконец не выдержав, позвал:
— Эй, заложники, кончай целоваться-обниматься, давайте в палатку, чай пить будем.
— Отличная штука ваш керогаз, — заметил Вадим, осторожно взяв в руки обжигающую жестяную кружку с чаем, — только воняет и коптит.
— Я без него, родимого, как без рук, — сообщил фельдшер, — но воняет он сильно, что правда, то правда. И копоти много. Зато чаек хорош.
— Да, чай какой-то особенный, — кивнула Маша, — очень вкусный.
Послышались голоса и шаги. В палатку заглянул Константинов.
— Ну что, товарищ полковник, не поймали? — спросил фельдшер.
— Нет, Василич, — вздохнул Константинов, — не поймали.
— А тех, троих? Вы заходите, чайку попейте с нами.
— Спасибо, Василич. От чайку не откажусь. Из тех троих одного уложили, другого взяли живым, а третий ушел.
— На базу-то скоро полетим? — спросил Василич, подавая полковнику кружку с чаем.
— Через час-полтора. Как вертолеты вернутся. Слушай, Василич, вот ты тут сидишь, чаи распиваешь. А там старлей руку ободрал до мяса. И керогаз твой коптит, — заметил полковник, — ты бы вышел, помазал старлея йодом и примус успокоил бы свой.
— Ладно, понял, — Василия, кряхтя, поднялся и вышел из палатки.
— Ну что, Мария Львовна, — Константинов пристально взглянул на Машу, — и не жаль вам синеглазой корреспондентки газеты «Кайф» Юлии Ворониной? На нее розыск объявлен, поймают, обвинят в убийстве кандидата в губернаторы. Во всяком случае, заподозрят.
— Юля Воронина никого не убивала, — тихо сказала Маша, — она только подкинула чеченской марионетке кассету, на которой он сам был заснят. Помните, как в финальной сцене «Гамлета»: «Ступай, отравленная сталь, по назначению!» Юля Воронина только прилепила лейкопластырем кассету к крышке унитазного бачка в индивидуальном сортире в офисе Иванова. А чеченцы нашли и убили Иванова.
— Я не сомневаюсь, что вы, Машенька, станете знаменитой актрисой, — медленно произнес полковник, — но мой вам совет на будущее: никогда не занимайтесь самодеятельностью. Самодеятельность и профессионализм — вещи несовместимые.
— Это была не самодеятельность, а самооборона, — возразила Маша, — Ахмеджанов не успокоился бы, пока не нашел кассету.
— Глеб Евгеньевич, — вступил в разговор доктор, — теперь, вероятно, кассета уже потеряла для вас всякий смысл? Там уже нет для вас ничего нового?
— Почему? Есть кое-что новое и интересное.