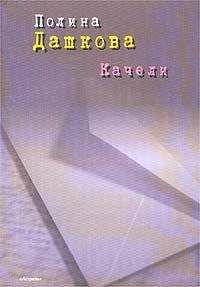Полина Дашкова - Приз
— Карл, я уйду, через полтора часа можешь закрываться на перерыв, — сказал Рейч. Продавец молча кивнул.
— Не хочу вас опять мучить в подвале, — Рейч улыбнулся, — пойдемте ко мне домой. То, за чем вы приехали, вероятно, там, а не здесь.
— Очень интересно, — хмыкнул Григорьев, — откуда вы знаете, за чем я приехал? Мы до сих пор не говорили на эту тему.
— Я догадываюсь. Хотя, могу и ошибаться. Пойдемте, Андрей. В любом случае дома лучше, чем в подвале.
Григорьев не стал спорить. Дом Рейча находился через пару кварталов, они дошли за пять минут. По дороге им попалось несколько плакатов со Сталиным.
— Неприятно? — спросил Рейч, кивнув на рекламную тумбу.
— А вам?
— Мне все равно. Это же Сталин, а не Гитлер.
— Конечно, — огрызнулся Григорьев, — это наш людоед, а не ваш.
— Смотрите, как вас задело, — засмеялся Рейч, — знаете, в чем главная проблема русских? Вы до сих пор переживаете опыт своего тоталитаризма как жертвы, тем самым полностью снимая с себя ответственность. Мы, немцы, наоборот, считаем себя виновниками своего Национального кошмара.
— Гитлер пришел к власти через выборы, немцы за него дружно проголосовали. А Сталина Россия не выбирала. Он взял власть, прокрутив свою дьявольскую интригу внутри правящей верхушки.
— Вот! — Рейч остановился и помахал пальцем у Григорьева перед Носом. — Комплекс вины делает нацию сильной, комплекс жертвы — слабой. Жертва себя жалеет и все себе, любимой, прощает. Знаете, чем это пахнет?
— То-то у вас так много неонацистов, — хмыкнул Григорьев.
— У вас не меньше.
— Я живу в Америке.
— Там тоже достаточно. А интересно, Россия для вас родина? Или уже нет? Ладно, можете не отвечать. Мы пришли.
В гостиной Рейча было темно и душно. Он поднял жалюзи, включил кондиционер.
— Кстати, мой Рики собирался сегодня посетить выставку советского плаката.
— Да, я заметил, ему нравится тоталитарная эстетика.
— Он, по сути, ребенок. И, как все дети, любит страшные сказки. Отчасти поэтому он был в полном восторге от Владимира Приза. Даже пару раз пригласил его в свой оккультный клуб.
— В оккультный клуб? — слегка удивился Григорьев.
— Ну да, знаете, эти модные игры в колдовство, увлечение вуду, вампирами, ведьмами. Мальчику интересно, и ладно. Кажется, есть такая русская поговорка: чем бы дитя ни тешилось… Сейчас я сварю кофе.
— Генрих, сколько времени провел здесь Владимир Приз?
— Сначала три дня, потом приехал еще раз, на неделю.
— Как вы с ним познакомились?
Рейч застыл с сахарницей в руках, нахмурился.
— Не помню! Он просто позвонил по телефону, представился.
— Он сослался на кого-то? Кто дал ему ваш номер?
— Драконов, кажется, — Рейч поставил на стол сахарницу, разлил кофе по чашкам, сел. — Ладно, Андрей. Теперь выкладывайте, зачем вы явились ко мне из своего Нью-Йорка?
«Вот он, час икс!» — поздравил себя Григорьев.
— Генрих, меня интересуют фотографии двадцатилетней давности. Те, что делали вы сами, когда вам приходилось бегать на сорокаградусной жаре, под пулями.
— Пешавар?
Глаза Рейча напряженно блеснули.
— Именно, — кивнул Григорьев.
Генрих засмеялся, сначала тихо, потом все громче. Он хохотал, как сумасшедший, хлопал себя по коленкам. Григорьеву показалось, что старик сейчас пустится в пляс. Но нет. Остался сидеть. Вытер слезы, высморкался и произнес, все еще давясь смехом:
— Опомнились! Спохватились! Поздравляю! После одиннадцатого сентября я все ждал, когда же кто-нибудь полюбопытствует, что есть интересного в коллекции старика Генриха? Я ведь был одним из немногих, кому выдали разрешение снимать американских инструкторов. Но из тех, кто сумел сохранить пленки до двадцать первого века, я, пожалуй, единственный.
— Вы ждали? — тихо уточнил Григорьев. — И никто в последнее время не интересовался этими снимками?
Рейч отсмеялся, наконец успокоился, хлебнул ледяной воды, лицо его стало серьезным.
— Никто. Не только за последнее время, но вообще за все двадцать лет. Вы первый. Ну скажите честно, зачем они вам, историку? Шучу, шучу. Не утруждайтесь сочинением очередной легенды. Правду вы все равно не скажете. Снимков много. Может, вы уточните даты, имена?
— Я хотел бы взглянуть на фотографии, на которых американские инструкторы запечатлены рядом с террористом номер один, — сказал Григорьев.
— Ого! Это действительно интересно. Какие именно инструкторы? Ну, не стесняйтесь.
Григорьев стал перечислять имена высших офицеров ЦРУ. Всего семь человек. Список этот был заранее оговорен с руководством. В него входили пенсионеры, инвалиды, которым ничего уже не угрожало.
— Неужели сенатская комиссия терзает даже стариков? — спросил Рейч и сочувственно покачал головой. — Как не стыдно!
— Какая сенатская комиссия? — Григорьев изобразил легкое удивление.
Рейч иронически улыбнулся.
— Ну как же! Об это писали все газеты. После трагедии одиннадцатого сентября специальная сенатская комиссия совместно с ФБР потрошит высших офицеров ЦРУ, откапывает старые афганские связи. Вам ли не знать?
— А, вы об этом? — равнодушно кивнул Григорьев.
«Почему, когда я попросил показать снимки, он сразу связал это с сенатской комиссией? — подумал Григорьев. — Впрочем, о работе комиссии газеты, правда, писали»
— Все эти расследования — обычные рекламные трюки сенаторов перед выборами. Неужели вы, Андрей, участвуете в этом безобразии и помогаете политикам делать свой грязный пиар на реальной трагедии? Или наоборот, вы боитесь, что я продам кое-что из своих архивов, пользуясь остротой момента, и хотите выяснить, что у меня есть?
— Генрих, если я вас правильно понял, никто с подобной просьбой к вам еще не обращался и ни одного снимка вы пока не продали? — теперь пришла очередь Григорьева впиться взглядом в лицо собеседника.
— Никто, — повторил Рейч, — вы первый. Желаете, чтобы я продал их вам, вместе с негативами?
— Сначала я хотел бы на них взглянуть.
— О, это пожалуйста. Одну минуточку.
Рейч вышел из комнаты. Вернулся он минут через десять. Был страшно бледен. Руки дрожали.
* * *— Устала ты от них? — спросила врач Вера Ивановна, когда телегруппа выкатилась.
Василиса лежала, не двигаясь, глядя в потолок. Агапова присела на край койки и погладила ее по волосам.
— Молчишь. Представляю, что у тебя в голове сейчас творится. Столько пришлось пережить, чудом уцелела, а поделиться впечатлениями ни с кем не можешь. И родных никого рядом. Где же мама твоя? К маме, небось, хочется? — Агапова вдруг запнулась, покраснела, пробормотала себе под нос: — Ой, ладно, не буду, вдруг ты вообще сирота, мало ли? — Она поправила шапочку и заговорила нарочито бодрым, громким голосом: — Ты давай-ка, думай о том, что все хорошо. Могло быть значительно хуже. Шрамов у тебя не останется, руки-ноги заживут. Я уверена, после эфира кто-нибудь из твоих родных обязательно откликнется. Я только потому и пустила этих телевизионщиков в палату, чтобы они помогли найти твоих родных. Теперь тебе надо поспать.
Василиса помотала головой, зажмурилась и до крови закусила губу.
Она хотела объяснить, что откликаться некому. И еще, она хотела сказать, что милиционер, который приезжал за ней в Кисловку, связан с бандитами, устроившими стрельбу в заброшенном лагере. Он пытался увезти ее по-тихому. Ему помешала Лидуня. Он вел себя как бандит и неврастеник.
Когда вошли хозяйка и участковый, он не успел убрать пистолет. Стал объяснять, что Лидуня накинулась на него, как дикая кошка, и ему пришлось припугнуть ее. Они поверили, но хозяйка выгнала его из дома. Анастасия Игнатьевна обошлась с ним как с малолетней шпаной, и участковый Поликарпыч ее поддержал. Было удивительно, что этот псих в милицейской форме их послушался, ушел на улицу, за калитку. Он вообще сник и смутился, когда они явились. Не то чтобы испугался, а именно сник, поджал хвост и стал вести себя, как нашкодивший мальчишка. Василисе даже показалось, что ему стыдно. Но не за ту безобразную сцену, которой они не видели, а за нечто другое, из далекого прошлого.
До приезда «скорой» Анастасия Игнатьевна занималась Лидуней, утешала ее, мазала йодом ссадину на лбу, объясняла, что бояться нечего, это раньше он был Лезвие, а теперь старший лейтенант милиции и не имеет права никого обижать, особенно при исполнении, потому что его за это обязательно накажут.
Лидуня тряслась, всхлипывала, бормотала. От волнения она картавила еще сильней. Василисе почудилось, что юродивая пытается произнести ее имя и фамилию, что-то вроде «Гатева Сиися Ииня», но ни хозяйка, ни участковый ничего не разобрали.
А старший лейтенант при них ее имени не повторил. Сначала Василиса думала — случайно забыл, растерялся, но потом поняла: он промолчал нарочно.