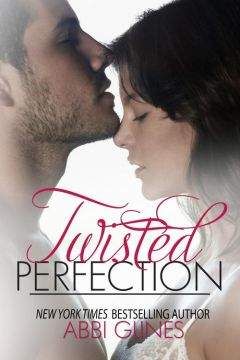Карло Шефер - В неверном свете
Прокурор быстро попрощалась и поспешила покинуть тяжелую атмосферу кабинета, не стал задерживаться и ее спутник.
— Минуточку, господин Зельтманн, — окликнул его Тойер.
— Да, господин Тойер? — На этот раз шеф даже не дал себе труда надеть маску дружелюбия. Его стареющие черты выражали неприкрытую злость.
— Почему мы не можем оставить за собой это дело?
— Господин Тойер, тут объективная необходимость, ничего личного!
— Я что, не личность?
— О, разумеется! — Зельтманн взглянул на него даже не без симпатии, словно писатель на своего сына, когда тот неплохо рассказал ему о своем приключении. — Вы личность. Оригинал. Лично я питаю слабость к оригиналам. Но только слабость, и она не затуманивает мою способность трезво оценивать человека. Ваше личное дело читается словно… как бы это помягче выразиться… плутовской роман. Очень занятно, но не вызывает доверия. Судите сами: некий комиссар Тойер проболел в 1982 году две недели. Верней, сказался больным. Вместо подтверждения мы читаем записку, написанную его рукой на пергаментной бумаге из-под бутербродов. Мол, он болен, да к тому же обеспокоен состоянием Вселенной, так как в последние годы физики странно себя ведут. Как вам это понравится? Доверите ли вы такому сотруднику расследовать случай со смертельным исходом? Ведь он может под конец предъявить вам преступника, живущего на Луне.
— Это было вскоре после смерти моей жены, — смешавшись, ответил Тойер. — Мне хотелось довести до конца одно дело, но ваш бешеный предшественник Рёттиг не дал мне…
— Вот видите? Ладно, хватит. — Зельтманн закрыл дверь.
Все четверо сидели, словно нашалившие школьники.
— Вы молодец, Штерн, — устало проговорил Тойер. — Иначе мы выглядели бы идиотами.
— Боюсь, что толку от этого мало, — вздохнул Лейдиг. — Давайте не заблуждаться: мы оказались в…
— Господин Тойер, иногда вы нам выкаете, а иногда тыкаете, — перебил его Штерн. — Это что-либо значит или нет?
— Ничего не значит, — с достоинством подтвердил старший следователь.
Лейдиг, казалось, решился на самобичевание и опять продолжил свое:
— Наша группа сформирована из того, что осталось при комплектации. Меня все держат за слаба…
— А меня все считают дураком, — печально поддержал его Штерн, — даже мой отец, потому что я не стал строителем.
— Да, ясно, — невесело кивнул Хафнер. — Господина Тойера все называют чокнутым, я сам слышал. Только про меня ничего не говорят.
— Совсем ничего, — ядовито согласился его шеф. — Вот это ты можешь и отпраздновать сегодня вечером. На всю катушку.
Хафнер пропустил шпильку мимо ушей и растянул до ушей свой большой рот:
— Знаете что: турчанка мне понравилась.
2
Остаток дня лежал перед четверкой детективов словно мертвая пустыня. Реформа Зельтманна, как и большинство реформ, ничего, по сути, не изменила; большая часть их работы по-прежнему состояла из повседневного идиотизма; не было никакого смысла четыре раза допрашивать пьяного албанского драчуна или вообще сидеть вчетвером в кабинете. Они мрачно копались во всяких пустячных историях. Драки в ресторанах, вымогательства на школьном дворе, даже дела на грани истечения срока давности, когда виновники преступлений нередко уже обзавелись первой сединой, — и так далее, и тому подобное. Запомнилось дело некой сестры милосердия, которая из религиозных побуждений ткнула зонтиком безногого мусульманина, но поскольку дама, с одной стороны, полностью признала свою вину, с другой — из-за бурно прогрессировавшего диабета была освобождена из-под ареста, даже этот курьезный случай не принес особой радости.
Днем, когда Тойер, отказывавшийся от обеда после недавней покупки электронных весов, был в особенно скверном настроении, Мецнер принес собранные им материалы по делу об убийствах собак. Хафнеру оказалось достаточно одного взгляда, чтобы по-деловому оценить их. Ни колкостей, ни леденящих кровь подробностей не последовало.
По сути, материалы состояли из снимков двух застреленных овчарок с точным указанием места и очень приблизительным определением времени злодеяний. Приводились и данные о владельцах. Ни одно из животных не было последним утешением одинокой вдовы или поводырем слепого — поэтому такому решительному противнику собак, как Тойер, прочитанное не показалось трагедией. На обложке узкой черновой тетради какой-то безымянный коллега написал, что там действовал отвратительный ублюдок. Во всяком случае, он так считал.
Шел дождь.
— Интересно, неужели начнется настоящее половодье, как в девяносто четвертом? — проговорил Штерн, обращаясь к сидевшим в кружок коллегам.
— Сейчас мы выясним. Ведь мы хорошие детективы. — Лейдиг позвонил в полицию охраны порядка на воде. — Уровень Неккара понижается, — объявил он вскоре. — Таяние снегов в Шварцвальде закончилось. Уже снова можно ездить по набережной.
Это известие не обрадовало никого из четверых; оно лишь означало, что день станет окончательно скучным.
— В девяносто четвертом у меня еще жил в Старом городе дядька, — неожиданно сообщил Хафнер, хотя его никто не спрашивал. — Сейчас он уже умер. Да, в девяносто четвертом мы незадолго до Рождества плыли на резиновой лодке по Нижней Неккарштрассе.
Все молчали.
— Весело тогда было. — При воспоминании о том половодье Хафнер просиял, словно ребенок, и это тронуло Тойера. — Тогда я в первый раз попробовал грог.
— А у него было обручальное кольцо на пальце? — неожиданно спросил Лейдиг. Все понимали, что он имел в виду не дядьку Хафнера.
— Нет. — Штерн наморщил лоб, припоминая. — Иначе я обязательно обратил бы на это внимание.
— Тогда его не ждет дома бедная супруга, — усмехнулся Лейдиг, обращаясь к кругу столов.
Тойер встал и прошелся взад-вперед; его правая нога затекла от долгого сидения и теперь побаливала.
— Нет, это просто бред какой-то, — проговорил он на ходу. — Ну, скажите, пожалуйста, как можно вот так просто взять и свалиться в воду на первой неделе поста? Представьте себе: вот он идет куда-то или делает что-то там еще, скажем, ловит рыбу и вдруг шлепается в Неккар. Причем рыбу он удил в зимнем пальто, а главное — ночью.
— Без удочки, насколько нам известно, — не без удовлетворения добавил Лейдиг.
— Вообще-то я не знаю. — Штерн был явно озадачен. Про ловлю рыбы он ничего не говорил. — Вот только — я думаю, что Зельтманн не прав. Если бы турчанка сказала, что надо подождать, он наверняка посоветовал бы обратное.
— Конечно. — Тойер пожал плечами, точнее, он был в таком сумрачном настроении, что шевельнул лишь правым плечом, шевелить обоими было бы чересчур. — У этих номенклатурных жеребцов так все и делается. Да, ничего тут не попишешь.
— Но все-таки мы должны что-то предпринять! — По сравнению с прежней своей кротостью Штерн только что не бурлил от гнева.
— Точно, встанем в цепочку перед ратушей и будем петь песни протеста, — засмеялся Лейдиг.
— Мы могли бы, — упорно гнул свою линию Штерн, — немного прогуляться в выходные по Старому городу и поспрашивать тамошних жителей. Или это запрещено?
— Ну вот! — воскликнул Хафнер. — Еще недавно я тут один среди вас был глупцом. — Тойер хотел что-то возразить, но ему помешал властный жест его подчиненного. — Я был глупцом, поскольку с самого начала утверждал, что это однозначно убийство. Теперь же кто-то покушается на мое свободное время. Как это понимать?
— Ах, Хафнер, — шеф группы раздраженно прижал кулаки к вискам, — нажраться ты все равно успеешь.
Его слова заметно успокоили Хафнера.
— Но ты все-таки прав, я вот все спрашиваю себя, станет ли человек надевать теплое пальто, если собирается свести счеты с жизнью, бросившись в ледяную воду. К тому же он был маленького роста. Чем человек ниже ростом, тем трудней ему случайно упасть с моста, перегнувшись через перила. Господи, да нам никто и не запрещает немного походить там, поспрашивать. — Тойер ударил ладонью по столу, уколовшись при этом об острие карандаша. — Если вы пойдете, то я с вами.
Иногда комиссар пытался хоть немного почувствовать вкус жизни, имитируя жизнерадостность.
Где- то совершенно в другом месте он отправляется в свою поездку. Небеса потемнели, но его это не огорчает. Нет, не только не огорчает, но даже радует. Хорошо! Темнота защитит, скроет его.
Он любит эти поездки, и специфический характер служебных командировок придает ему ощущение легкости, от которого уже трудно отказаться. Вот он, живой, настоящий, чувствует землю под ногами, ветер, овевающий лицо, и в то же время он невидим, его нет. На этот раз он будет преимущественно Дунканом, но сначала Макферсоном. И что вообще значат имя или фамилия, когда по бюрократическим критериям он вообще не существует? Нигде, ни в одном компьютере. Как будто он принадлежит к какому-то иному виду людей. В этом есть нечто изысканное, одиночество так изысканно.