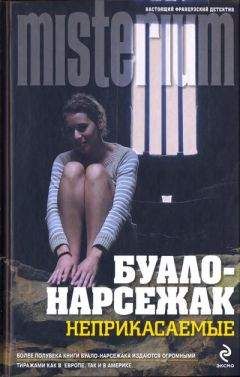Буало-Нарсежак - Та, которой не стало
III
Больше полутора суток! Больше! И вот счет пошел уже на часы. Равинель думал, что ожидание будет нестерпимо. Нет. Ничего ужасного. Но, может, так даже еще хуже. Время утратило обычную определенность. Верно, арестант, осужденный на пять лет, испытывает сперва примерно такое же чувство. Ну, а арестант, осужденный пожизненно? Равинель упорно гонит от себя эту мысль, назойливую, как муха, привлеченная запахом падали. Он то и дело прикладывается к бутылке. Не для того, чтобы показаться на людях, не для того, чтобы напиться. Просто чтобы как-то повлиять на ритм жизни. Между двумя рюмками коньяку иной раз и не заметишь, как пролетит время. Перебираешь в уме разные пустяки. Вспоминаешь, например, гостиницу, где пришлось ночевать накануне. Плохая кровать. Скверный кофе. Кто-то непрестанно снует взад-вперед. Свистки поездов. Надо бы уехать из Нанта в Редон, в Ансени. Но уехать невозможно. Может, потому, что просыпаешься всегда с одной и той же пронзительной, обескураживающе ясной мыслью... Прикидываешь свои шансы. Они кажутся настолько ничтожными, что даже неохота бороться. Часам к десяти, глядишь, возвращается надежда. Сомнения обращаются в веру. И ты бодро распахиваешь дверь "Кафе Франсе". Встречаешь друзей. Двоих-троих непременно застанешь, пьют кофе с коньяком. - А, старина Фернан! - Скажи пожалуйста! Ну и вид у тебя! Приходится сидеть с ним, улыбаться. К счастью, он тотчас с готовностью подхватывает любое твое объяснение. Лгать так легко. Можно сказать, что у тебя болят зубы и ты просто обалдел от лекарств. - А вот у меня, - говорит Тамизье, - в прошлом году был флюс... Еще бы немного, и я бы, наверно, отдал концы... ну и боль! Как ни странно, все это выслушиваешь, не моргнув глазом. Убеждаешь себя, что у тебя и в самом деле нестерпимо болят зубы и все идет как по маслу. Уже тогда, с Мирей... Тогда... Господи! Да это же было только вчера вечером... И разве вся эта история про зубы - ложь? Нет! Все куда сложнее. Вдруг делаешься другим человеком, перевоплощаешься, как актер. Но актер, как только опустится занавес, уже не отождествляет себя со своим персонажем. А вот ему теперь трудно разобрать, где кончается он сам, а где начинается его роль... - Скажи, Равинель, новый спиннинг "Ротор" - стоящая вещь? Я про него читал в журнале "Рыбная ловля". - Вещь неплохая. Особенно если удить в море. Ноябрьское утро, яркое солнце, в тумане мокрые тротуары... Время от времени показывается трамвай, описывает дугу на углу кафе. Поскрипывают колеса - протяжный, резкий, но не противный звук. - Дома все в порядке? - Угу... И тут он не солгал. Совершеннейшее раздвоение. - Веселая у тебя жизнь, - замечает Бельо, - вечно на колесах!.. А тебе никогда не хотелось взять себе парижский район? - Нет. Во-первых, парижский район дают работникам с большим стажем. А потом на периферии дела идут куда бойчей. - Лично я, - роняет Тамизье, - всегда удивляюсь, почему ты выбрал такую профессию... С твоим-то образованием! И он объясняет Бельо, что Равинель - юрист. Как растолковать им то, в чем и сам-то не разобрался? Тяга к воде... - Ну как, болит, а? - шепчет Бельо. - Болит... временами отпускает. Тяга к воде, к поэзии, потому что в рыболовных снастях, тонких и сложных, для него - поэзия. Возможно, просто мальчишество, пережитки детства? Но почему бы и нет? Неужели же надо походить на мосье Бельо, торговца сорочками и галстуками, безнадежно накачивающего себя вином, как только выдастся свободная минута? И сколько еще людей невидимыми цепями прикованы - каждый к своей собачьей конуре! Ну как им скажешь, что чуточку презираешь их, что принадлежишь к породе кочевников и торгуешь мечтой, раскладывая по прилавку рыболовные крючки, искусственную наживку или разноцветные блесны, так метко названные приманками. Разумеется, у тебя, как и у всех, есть профессия. Но тут уже другое. Тут что-то вроде живописи и литературы... Как это объяснить? Рыбалка - своего рода бегство. Но от чего? Это уже другой вопрос. ...Равинель вздрагивает. Половина девятого. Почти целый час он перебирал недавние воспоминания. - Официант!.. Коньяк!.. А что было потом, после кафе? Он побывал у парикмахера Ле Флема, близ моста Пирмино. Ле Флем, каждый понедельник бравший огромных щук возле Пеллерена, заказал ему три садка для уток. Поговорили о голавле, о ловле на мух. Парикмахер не верил в искусственных мух. Чтобы его переубедить, пришлось сделать "хичкок" из пера куропатки. Искусственные мухи получались у Равинеля как ни у кого во Франции, а может, и во всей Европе. У него своя манера держать приманку левой рукой. А главное - Он умеет так ловко закрутить перо вокруг грудки, что виден каждый волосок, и узелок он завязывает по-особенному. Отлакировать - это кто угодно сумеет. А вот растрепать тонкие волоски, разместить усики, придающие вид живой мухи, умело подобрать краски - это уже подлинное искусство. Муха трепещет, дрожит на ладони. Дунешь - и взлетит. Иллюзия полная. Недаром, когда держишь на ладони такую муху, становится как-то не по себе. Так и хочется ее прихлопнуть. - Вот это да! - восхищается парикмахер. Ле Флем взмахивает рукой, как бы закидывая удочку, и воображаемый бамбук выгибается дугой. Его рука подрагивает от напряжения, будто рыба бросается наутек, стремительно рассекая водные толщи. - Вы хлопаете голавля вот так... и готово дело! Левая рука Ле Флема ловко подставляет воображаемый сачок под укрощенную рыбу. Симпатичный он парень, этот Ле Флем. Прошло несколько часов. К вечеру - кино. Потом опять кино. Потом другая гостиница, на сей раз очень тихая. Мирей все время здесь, рядом... Но не та, что лежит в ванной, а Мирей в Ангаане. Живая Мирей, с которой он бы охотно поделился своими страхами. "Как бы ты поступила на моем месте, Мирей?" А ведь он еще любит ее или, вернее, робко начинает любить. Нелепо. Мерзко, как ни крути, и все-таки... - Смотри-ка! Да это же... Равинель. - Что? Перед ним остановились двое - Кадю и какой-то незнакомец в спортивной куртке. Высокий, сухопарый, он внимательно всматривался в глаза Равинеля, словно... - Знакомься, это Ларминжа, - расплывается в улыбке Кадю. Ларминжа! Равинель знавал Ларминжа, мальчонку в черной блузе, который решал ему задачки. Они оглядывают друг друга. Ларминжа протягивает руку первый. - Фернан! Приятная неожиданность... Прошло небось добрых лет двадцать пять, а? Кадю хлопает в ладоши. - Три коньяка! И все-таки наступает легкая заминка. Неужели этот детина с холодными глазами и крючковатым носом - Ларминжа? - Ты теперь где? - спрашивает Равинель. - Я архитектор... а ты? - О-о! Я коммивояжер. Это сообщение сразу устанавливает дистанцию. Ларминжа уклончиво бросает Кадю: - Мы вместе учились в лицее в Бресте. Кажется, даже вместе сдавали выпускные экзамены... Сколько лет, сколько зим! Согревая в руке рюмку с коньяком, он снова обращается к Равинелю: - А как родители? - Умерли. Вздохнув, Ларминжа объясняет Кадю: - Его отец преподавал в лицее. Так и вижу его с зонтом и с портфелем. Он нечасто улыбался. Что верно, то верно. Нечасто. У него был туберкулез. Но зачем Ларминжа это знать? И хватит говорить об отце; он всегда ходил в черном; лицеисты прозвали его Сардина. В сущности, именно он и отвратил Равинеля от ученья. Вечно твердил: "Вот когда меня не будет... Когда останешься без отца... Трудись, трудись..." Сидя за столом, отец вдруг забывал о еде и, сдвинув мохнатые брови, унаследованные от него Равинелем, впивался взглядом в сына. "Фернан, дата Кампо-Формио?.. Формула бутана?.. Согласование времен в латинском языке?" Он был человек пунктуальный, педантичный, все заносил на карточки. Для него география была перечнем городов, история - перечнем дат, человек - перечнем костей и мышц. У Равинеля и сейчас еще выступает холодный пот, когда он вспоминает об экзамене на аттестат зрелости. И нередко, словно в кошмарном сне, ему приходят на память странные слова: Пуант-а-Питр известковый... односемядольный... Нельзя безнаказанно быть сыном Сардины. Что бы сказал Ларминжа, признайся ему Равинель, что он молил бога о смерти отца, следил за признаками близкого конца? Да что там говорить. Он поднаторел в медицине. Он знает, что означает пена в уголках рта, сухой кашель по вечерам; знает, каково быть сыном больного. Вечно дрожать за его здоровье, следить за температурой, за переменами погоды. Как говорила его мать: "У нас до седых волос не доживают". Она пережила мужа лишь на несколько месяцев. Тихо ушла в небытие, изможденная расчетами и бережливостью. Братьев и сестер у Равинеля не было, и после кончины матери он, несмотря на зрелый возраст, чувствовал себя бедным сиротой. Чувство это не прошло и по сей день. Что-то в нем так и не расцвело, и он вечно вздрагивает, когда хлопает дверь или когда его неожиданно окликают. Он боится вопросов в упор. Конечно, теперь у него не спрашивают о дате Кампо-Формио, но он по-прежнему боится попасть впросак, забыть что-нибудь существенное. Ему и в самом деле случалось забывать номер своего телефона, номер своей машины. В один прекрасный день он забудет и собственное имя. И не будет ни чьим-то сыном, ни мужем, никем... Безымянный человек из толпы, он в тот день, может быть, испытает счастье, запретное счастье! Кто знает? - А помнишь, как мы бродили по Испанской косе? Равинель медленно отрывается от своих мыслей. Ах да, Ларминжа. - Интересно, какой тогда был Равинель? Наверное, сухарь. - Сухарь? Ларминжа и Равинель переглянулись и одновременно рассмеялись, будто скрепляя пакет. Кадю этого не понять... - Сухарь да, пожалуй... - отозвался Ларминжа и спросил: - Ты женат? Равинель посмотрел на свое обручальное кольцо и покраснел. - Женат. Мы живем в Ангиане, под Парижем. - Знаю. Разговор не клеился. Бывшие приятели исподтишка разглядывали друг друга. У Ларминжа тоже обручальное кольцо. Он нет-нет да и вытрет глаза - видно, не привык к вину. Можно бы порасспросить его о житье-бытье, только зачем? Чужая жизнь никогда не интересовала Равинеля. - Ну, как идет реконструкция? - спрашивает Кадю. - Двигается понемногу, - отвечает Ларминжа. - Во сколько в среднем обходится первый этаж со всеми удобствами? - Смотря какая квартира. Четыре комнаты с ванной - миллиона в два. Если ванная, конечно, вполне современная. Равинель подзывает официанта. - Пойдем куда-нибудь еще, - предлагает Кадю. - Нет. У меня свидание. Ты уж извини меня, Ларминжа. Он пожимает их мягкие теплые руки, У Ларминжа обиженное лицо. Что ж, он не хочет навязываться и так далее. - Все-таки мог бы с нами позавтракать, - - ворчит Кадю. - В другой раз. - Это само собой. Я покажу тебе участок у моста Сене, который недавно приобрел. Равинель торопится уйти. Он упрекает себя в недостатке хладнокровия, но не его вина, что он так болезненно на все реагирует. Да и другой бы на его месте... Часы бегут. Он отводит машину на станцию обслуживания в Эрдре. Смазка. Полный бак горючего, И две канистры про запас. Потом едет на площадь Коммерс, минует Биржу, пересекает эспланаду острова Жольет. Слева он видит порт, удаляющиеся огни статуи Свободы, Луару, испещренную световыми бликами. Никогда еще не ощущал он такой внутренней свободы, и тем не менее нервы его напряжены и сердце болезненно сжимается, готовясь к неизбежному испытанию. Прогромыхал мимо нескончаемый товарный состав. Равинель считает вагоны. Тридцать один. Сейчас Люсьен, наверное, выходит из больницы. Пускай себе закончит рабочий день. В конце концов, весь план придумала она. Ах да, брезент! Он прекрасно помнит, что свернутый брезент лежит сзади, в углу машины, и все-таки беспокойно оборачивается. Брезент "Калифорния", служащий ему образцом материалов для палатки. Он снова поворачивается и тут замечает Люсьен. В туфлях на микропорке она бесшумно шагает по тротуару к нему. - Добрый вечер, Фернан... Все в порядке... Устал? Она открывает дверцу, тотчас снимает перчатку и щупает пульс Равинеля. На лице недовольная гримаса. - Ты явно нервничаешь... Чувствуется, что пил. - А что еще прикажешь делать? - ворчит он, нажимая на стартер. - Сама рекомендовала мне торчать на людях. Машина мчится по набережной Фосс. Час "пик". Десятки огоньков пляшут в темноте, петляют, встречаются, расходятся. Это велосипедисты. Надо быть начеку. Хоть Равинель не бог весть какой механик, машину он водит отменно. Умело лавирует. После шлагбаума ехать стало намного легче. - Дай-ка ключи, - шепчет Люсьен. Он разворачивается, дает задний ход. Она выходит из машины, поднимает дверь гаража. Равинель с удовольствием выпил бы коньяку, - Брезент, - напоминает Люсьен. Она открывает уже другую, дальнюю дверь.. прислушивается. Потом входит в ДОМ. А Равинель тем временем вытаскивает, расправляет, скатывает брезент и вдруг слышит шум, которого так боялся... Вода... Вода, вытекающая из ванны. Сточная труба проходит в гараже. Он не раз видел утопленников. Ведь при такой работе, как у него, частенько оказываешься у реки. Вид.у всех утопленников неприглядный. Черные, разбухшие. Кожа от багра лопается... Равинель с трудом одолевает две ступеньки. Там, в глубине затихшего дома, с бульканьем убегает из ванны вода... Равинель проходит по коридору, останавливается на пороге спальни. Дверь в ванную открыта. Люсьен склонилась над затихающей ванной. Она что-то разглядывает... Брезент падает. Равинель сам не знает, то ли он его выпустил из рук, то ли ткань просто выскользнула... Он молча поворачивается, идет в столовую. Бутылка с вином по-прежнему стоит на столе, рядом с графином. Он пьет прямо из горлышка, не переводя дыхания. Какого черта! Надо наконец решиться. Он возвращается в ванную, поднимает брезент. - Расправь его хорошенько, - распоряжается Люсьен. - Что расправить? - Брезент. У нее черствое, напряженное лицо - такого он еще у нее не видел. Равинель разворачивает непромокаемую ткань. Получается большущий зеленоватый ковер, не умещающийся в ванной. - Ну, как? - шепчет Равинель. Люсьен снимает пальто, закатывает рукава. - Ну, как? - повторяет Равинель. - А как ты думал? - отзывается она. - Через двое суток... Странная магия слов! Равинелю вдруг стало холодно. Ему хочется увидеть Мирей. Словно в приступе тошноты, он наклоняется над ванной. И видит юбку, облепившую ноги, и сложенные руки, и пальцы, сжимающие горло... О!.. Равинель с криком пятится. Он увидел лицо Мирей. Потемневшие от воды волосы, как водоросли, прилипли ко лбу, закрыли глаза. Оскаленные зубы, застывший рот... - Помоги же мне, - говорит Люсьен. Он опирается на умывальник. Его тошнит. - Погоди... сейчас. Какой ужас! И все же воображение рисовало ему нечто еще более страшное. Но утопленники, вытащенные из реки, - это утопленники, плывшие много дней вдоль черных корявых берегов. А тут... Он выпрямляется, сбрасывает пальто, пиджак. - Бери ее за ноги, - приказывает Люсьен. Ему неудобно, не с руки, и ноша кажется еще тяжелей. Гулко стучат капли. Ах! Одеревенелые, ледяные ноги. Вот они приподнимают тело Мирей над краем ванны, опускают. Потом Люсьен прикрывает труп и, словно упаковывая товар, закатывает брезент. Теперь у их ног лежит только блестящий цилиндр, сквозь складки которого просачивается вода. Остается только закрутить два конца брезента, чтобы было за что ухватиться. И они выходят со своей ношей из дому. - Надо было заранее, открыть машину, - замечает Люсьен. Равинель откидывает крышку багажника, залезает в машину и тянет на себя длинный тюк. Тот умещается только по диагонали. - Лучше бы перевязать, - бурчит Равинель. И тут же злится на себя. Он говорит как коммивояжер! Не как муж. Да и Люсьен, конечно, сама уже все сообразила. - Некогда. Сойдет. Равинель соскакивает на землю, растирает себе поясницу. Черт побери! Все-таки прихватило. Надо было поберечься, не давать воли нервам. Он из последних сил делает бесполезные судорожные движения: сжимает и разжимает пальцы, трет затылок, сморкается, чешется. - Подожди меня, - говорит Люсьен. - Я хоть немного приберу в комнатах. - Нет! Только не это! Ему не под силу оставаться одному в тускло освещенном гараже. Они снова поднимаются в дом. Люсьен наводит порядок в столовой, выливает воду из графина, вытирает его. А он чистит щеткой пиджак, застилает постель. Полный порядок. Последний придирчивый взгляд... И Равинель берется за шляпу, а Люсьен, натянув перчатки, подхватывает сумку и шубку Мирей. Да, да, полный порядок. Она оборачивается: - Ну, доволен, милый? Тогда поцелуй меня. Ни за что! Только не здесь! Какое бессердечие! Ну и Люсьен! Часто он ее или не понимает, или считает до предела наглой. Вытолкав ее в коридор, он запирает дверь на ключ. Потом возвращается в гараж. Напоследок оглядывает машину, тычет носком ботинка в покрышки. Люсьен уже в машине. Он выводит машину. Торопливо закрывает гараж. Вдруг позади останавливается какой-то автомобиль. Уж не любопытства ли ради? Равинель нервно хлопает дверцей, выжимает сцепление, гонит машину в сторону вокзала и, выбирая улицы потемней, попадает на Женераль-Бюат. Машина покачивается из стороны в сторону, обгоняет лязгающие трамваи, сквозь запотевшие окна которых видны темные силуэты пассажиров. - Нечего так мчаться, - выговаривает ему Люсьен. Но Равинелю не терпится выехать за город, затеряться на темных полевых дорогах. Мелькают бензозаправочные станции - красные, белые... летят мимо дома рабочих... заводские стены. Вот в конце проспекта опускается шлагбаум. .И тут Равинеля охватывает страх. Нестерпимый страх... Равинель останавливается за грузовиком, гасит фары. - Мог бы придерживаться правил уличного движения! Да она просто каменная! Проходит поезд-товарняк. Его тащит старенький паровоз, пылающая топка поджигает тьму ночи. Грузовик трогается. Путь свободен. Если бы Равинель не перезабыл все молитвы, он бы непременно помолился.