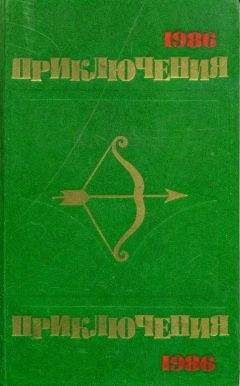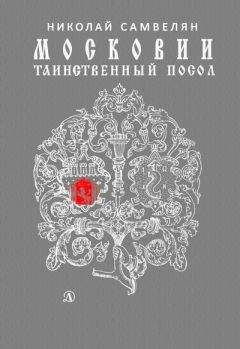Николай Самвелян - Прощание с европой
— А ведь любопытно, — говорил Пробст. — Любопытно то, что каждый считает себя умнее, лучше и красивее другого… В этом городе есть нечто приятное. Но поинтересуйся их легендами, преданиями. Оказывается, они считают, что Львов красивее Флоренции и Парижа. Когда-то переговоры между генуэзскими и львовскими купцами прервались только потому, что итальянцы посмели назвать Львов галицийской Флоренцией. Львовским купцам, видите ли, не понравилось, что их вообще с кем-то сравнивают.
— Да и нам бы не понравилось, — заметил Балле. — Мы ведь тоже считаем себя единственными, неповторимыми, уникальными. Так думает о себе каждый человек. Так думают о себе целые народы.
— Может быть. Ты не находишь, что воскресенья нужны для того, чтобы мы не забывали — рай всё же существует? И в этом раю нас ждёт длительный настоящий отдых — пожизненная и щедрая пенсия.
— А понедельники — для того, чтобы помнить об аде!
— Это уж точно! Вот завтра мы с тобой и окунёмся в ад — просьбы, слезы, очереди за два квартала… «Утомлённое солнце»… Почему это оно утомлённое?
— А почему ему быть отдохнувшим? Как говорит их любимый поэт: «Свети — и никаких гвоздей». Даже затмения у него столь кратковременны, что не успеешь спокойно выпить кружку пива. Сегодня мы ведь ещё в раю. Ад начнётся часов через двадцать.
— Через девятнадцать, — уточнил педантичный Пробст.
Он поднялся в отыскал в альбоме новую пластинку. Двигался Пробст легко, шаг его был точен, как у кадрового военного или профессионального танцора. «Хорош! — подумал, глядя на него, Балле. — Женщины и строевые командиры должны быть от него без ума. Пират, временно променявший весёлую палубу на унылую сушу».
Пробст, конечно, отличный парень. Но его манера время от времени задавать риторические вопросы может кого угодно вывести из себя. Но, впрочем, это может быть и способом выиграть время при разговоре, не сказать чего-нибудь случайного. Балле знал, что вот уже год Пробст, как и все, кто служит здесь, в представительстве, занимающемся переселением в рейх граждан немецкой национальности, несёт двойную нагрузку. Днём заполняет документы немецких колонистов, которые теперь возвращаются в отчие края, а по вечерам сидит над списками деятелей польской и украинской культуры, пользующихся особым авторитетом среди населения. Папка для писателей, в ней фотографии и адреса. Отдельная папка отведена учёным. Конечно же, она открывается страничкой, посвящённой бывшему премьеру Польши профессору Казимиру Бартелю. Бумажка к бумажке. Карточка к карточке. Пробст — педант. Кроме того, у Пробста какие-то важные дела с митрополитом Шептицким. Раз в неделю он отправляется в гости к владыке. Возвращается с русскими книгами по искусству и каталогами картинных галерей и выставок. Видимо, у Пробста и митрополита общие художественные вкусы…
— Почему ты всё время выглядываешь в окно? Ждёшь кого-нибудь?
— Может быть, и жду.
— Назначил бы свидание в другом месте.
— Здесь удобнее. Постой! — сказал Пробст. — В саду кто-то есть. Там ходят.
Пробст подошёл к окну и легко перегнулся через подоконник — сложился, как складывается перочинный ножик. Ловок. Как пантера. С таким схватиться в тёмном коридоре не подарок.
— Эй! — крикнул в окно Пробст. — Кто там за деревом? Выходите, я вас все равно заметил. Вот так лучше. Постой, постой, так ведь именно тебя я и ждал сегодня. Почему бы тебе не войти через калитку?
— Я решил сократить путь, — ответил голос за окном. — Конечно, правильнее было бы прийти тем путём, каким положено. Прошу прощения.
— Ладно уж, заходи в дверь. — Пробст нажал на кнопку электромагнитного замка на входной двери.
В комнату вошёл юноша лет девятнадцати-двадцати. На нём был серый свитер и синие брюки в полоску, как диктовала мода того времени.
— Здравствуй, Станислав. Представляю тебе моего коллегу и приятеля — Вольфганга Балле. Он, как и я, в недалёком прошлом — искусствовед. Потому мы все свободное время проводим в музеях.
Станислав, ты обещал познакомить меня с людьми, у которых в доме есть интересные рисунки и картины. Не забыл? Вот и прекрасно. Завтра и послезавтра у меня свободные вечера. Я люблю людей, увлечённых искусством. А ты к тому же мечтаешь стать художником. Не так ли? Это великая цель. Достичь сияющих вершин искусства дано далеко не каждому. И сегодня, чтобы творить по-настоящему, мало одного наития, вдохновения. Нужны и знания. Точные, конкретные. Послушай, Станислав, мне пришла на ум любопытная идея. Давай я субсидирую твою поездку в лучшие музеи Москвы, Ленинграда и Киева. Считай, что эти деньги я дал тебе в долг. Отдашь, когда станешь знаменитым художником. Я бы сам с тобой поехал, если бы не служба, не утомительные будни наши… Право, у меня есть деньги. И я готов их тебе ссудить. Отчитаешься путеводителями. Да, да, именно путеводителями и каталогами. Из каждого музея привезёшь мне на память по одному, расскажешь о своих впечатлениях. Вот и всё. Согласен?
— Я подумаю.
— Думай. Только не очень долго. Гляди, чтобы мне не расхотелось делать тебе этот подарок…
Интродукция
(продолжение)
А существует ли на свете человек, который, побывав во Львове весной, не поддался бы искушению утонуть, растаять в этом вечере, который не подкрадывается потихоньку, издалека, как на севере, а рушится на город внезапно. И все вокруг обретает другие оттенки, краски, и кажется даже, что и другой смысл. Маленькие трамвайчики, но при всём при том совсем настоящие, торжественно плывут по миниатюрным улицам, проезжую часть которых можно преодолеть в три шага. Так строили города в эпохи, когда пуще всего на свете боялись нашествий, холодов и злых ветров. Город-квартира, город — прогулочная аллея. На его улицах человек заметён. Более того, он — диктатор и абсолют.
Вот дом, в котором жил профессор Мечислав Гембарович. О Гембаровиче нам ещё предстоит узнать многое. Крутая улица, флорентийские фонтаны с тритонами, резные стены капелл — полная иллюзия, что ты находишься в Ломбардии. А далее нависшие над тротуарами балконы — это уже нечто чисто испанское. Недаром в былые времена студентов архитектурных факультетов посылали на ознакомительную практику во Львов. Здесь можно увидеть все стили за исключением разве что романского — готику и ориентальный, русскую княжескую архитектуру и европейский модерн, сецессию и конструктивизм. Архитектурный праздник и архитектурный музей одновременно. А вот и несколько претенциозное здание, выстроенное вовсе не великим, но достаточно амбициозным архитектором. Здесь некогда хранился альбом рисунков Дюрера, сюда привозил Мечислава Гембаровича Каэтан Мюльман.
Всё ушло в даль времени, в «когда-то». Но забылось ли?
Есть легенда — на сцене львовского Большого театра оперы шла «Кармен». Пели кое-как. Труппу сколотили наспех. Были в ней и профессиональные актёры, не успевшие в первые дни войны выехать из города, были и люди совсем случайные. Кто-то донёс, что исполнительница партии Кармен не только не арийских, но и вовсе каких-то недопустимых кровей. Четверо из полевой жандармерии стояли за кулисами, ждали, когда закончится спектакль, чтобы увести с собой певицу. И тогда Хозе, увидев это, убил её — не по-театральному, не для видимости, а по-настоящему. И увели его, а затем и казнили. Оказалось, он давно любил свою партнёршу по сцене и не отдал её в руки палачей — предложил вместо неё себя. Мелодрама? Конечно. Да вот беда — было это на самом деле. Погибла Кармен, погиб и Хозе. Поняла ли она в последний момент, почему партнёр не пронёс нож мимо её груди?
А я вспоминаю наш маленький городок — металлургический завод, несколько шахт, две трамвайные лилии, необычайно просторный парфюмерный магазин ТЭЖЭ, сгоревший от первой же зажигательной бомбы.
Однажды ночью бабушка разбудила меня, и мы по-шли задворками, минуя патрулей, в сад металлургов. Там была могила красноармейцев, погибших в боях за город ещё в 1919 году. Обелиск немцы взорвали, но сам бугор, могила остались. Бабушка достала из кармана пальто какую-то бутылочку с водой, насыпала в горлышко щепоть земли с могилы.
— Выпей немного. А теперь становись на колени.
Бабушка произносила слова клятвы, я повторял за нею: «Как только рука моя сможет поднять меч, я подниму его, чтобы воздать врагу за смерть близких, за кровь и слезы…» Давно это было, и я забыл детали. И нет уже на свете бабушки, чтобы узнать, что именно, какая малость, которая была уже «через край», заставила её тогда повести меня на рассвете на могилу красноармейцев, даже имён которых не сохранилось. Но саму клятву помню.
И удивительно понимать, сколь разные начала могут существовать на одной и той же маленькой, совсем крошечной, если глядеть на неё из космоса, Земле. Могли ли не знать те, кто начал всемирную бойню в надежде на какую-то мифическую победу, что повсеместно вырастали мстители — от мала до велика? Вроде бы нельзя было не понимать этого. Тогда на что же надеялись? Каких таких рабов хотели получить? Как можно сделать человека рабом, если он не желает идти в рабство?