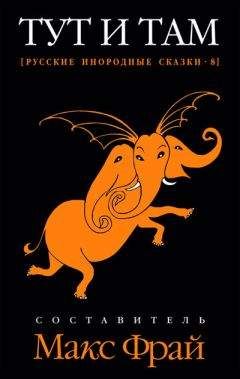Александр Чернобровкин - Последнему - кость
– Мои деньги, что хочу, то и делаю! – Широкая ладонь хлопнула по столу так, что бутылка зашаталась. Одуревшие от выпитого глаза уставились на щербинку на горлышке и, казалось, не замечали сына, резавшего хлеб.
– Накось выкуси – его деньги! – Мать сунула под нос отцу кукиш. – А дети чьи? Не твои?.. Наплодил, так корми! Или, думаешь, твое дело только кобелиное?! А вот тебе! – Кукиш встрял в нос.
Медленно, как будто толстую свеклу тянули его из земли, высунулся Порфиров-старший из-за стола. Табуретка, поддетая ногой, отлетела к печке. Одним шагом отец оказался у выхода из кухни, перекрыв дорогу к бегству.
Лешка глянул на окно. Закрыто. Под стол? Достанет. Значит, под кушетку. Сунул отрезанный кусок хлеба в рот, чтобы освободить руки, и прилип к стене, ожидая.
Мать пятилась к печке, прикрывая голову Андрюшкой. Удар пришелся между плоских, обвисших грудей. Они вскинулись и опали, согнутые ноги поджались к животу, задирая халат, платок съехал на глаза – мать будто собиралась крутануть сальто назад, но, начав, передумала и врезалась головой в угол, образованный стеной и полом. Андрюшка вылетел из пеленки и бултыхнулся в ведро с помоями. Грязная мыльная вода и картофельные очистки плеснулись через край. Кривые ножки судорожно постучали по дужке ведра и затихли.
Лешка, с хлебом во рту, подскочил к ведру, выхватил за ноги брата. К синюшного цвета спине прилипла желто-красная обертка от конфеты, вода обтекала бумажку, устремлялась в ложбинку над позвоночником, капала с безжизненно покачивающихся головы и рук.
– И-и-и!.. – взвизгнула мать, поднимаясь с пола, и вцепилась ногтями в щеки мужа, бурые и запавшие, словно неумело натянутые на широкие скулы.
Он очумело мотал головой и отступал боком, пока не осел на кушетку. Маленькие кулаки падали на курчавую голову, мстя за побои, сегодняшние, прошлые и будущие.
– Ирод, ребенка убил!.. На тебе, на тебе, на!..
Алексей держал брата за ноги, не зная, что делать. Он легонько потряс тельце, перехватил за пояс, перевернул. Большая голова неестественно запрокинулась, точно шея была сломана, маленькие глаза пустели белками, из приоткрытого рта текла грязная жидкость. Лешка положил младенца на стол, попытался сделать искусственное дыхание, но никак не мог вспомнить, где надо надавливать на тело, поэтому давил руками живот. Андрюшкины руки покорно вминали торчащий пупок в мокрый живот и отлетали к столу.
– Дай сюда! – закончив расправу с мужем, оттолкнула мать Лешку.
Она похлопала ребенка по спине, затем плеснула ему в рот остатки вина из бутылки и стакана. Заострившееся, сине-зеленое личико скривилось, хриплый кашель одолел препону в груди, вырвался наружу, вытягивая за собой надсадный рев.
– А-а-а!.. – на одной ноте тянул младенец и казался еще живее, чем был до падения в ведро.
Алексей проглотил размякший кусок, что был за зубами, вынул ломоть изо рта, вытер мокрой ладонью губы. Удачный сегодня денек: столько раз попадал в переплеты, а так и не сподобился быть битым. Чтобы не сглазить, не стал слушать, как мать ругает отца, ушел от греха подальше – спать.
В комнате, кроме его односпальной кровати, стояла такая же для младших сестер и двухспальная для старших. Девочки безмятежно посапывали. Алексей лег, доел в темноте хлеб, мечтая, как разделается когда-нибудь с Ленчиком: будет макать прыщавой мордой в канаву с вонючей водой. Заснуть никак не удавалось, два раза выходил в сени по нужде. Минуя кухню, видел, что родители сидят в обнимку перед постепенно допиваемой бутылкой вина, а младший брат свернулся калачиком на кушетке и прижимает ко рту светло-коричневый марлевый узелок.
Глава третья
– ...Убийца! Изверг! Как земля носит такого выродка! – надрывалась Тюхиничиха. Голос у нее крепкий: стая ворон, что пряталась от дождя в кронах росших в конце проулка тополей, прекратила карканье-перебранку и прислушалась к чужой.
– Это у тебя выродки! – отвечала Лешкина мать.
– Убивать таких надо, покуда всех на тот свет не отправил!
– Своих дави, сука толстозадая!
Зад у матери Тюхниных действительно был о-го-го: в калитку боком заходила.
– Ах, ты!.. – Дальше, как бревна из поднятого и неудачно застропленного пучка, громыхнулись матюки, отборные, подогнанные так лихо, что предыдущий стыдливо увядал при следующем.
– Пошли домой, – позвала мать Лешку, убедившись, что переругать соседку никогда не сумеет. – Рожу умой, – приказала она на кухне, – давай полью.
Набрав в кружку воды, подошла к склонившемуся над помойным ведром сыну.
– Палку-то выброси.
Лешка озадаченно посмотрел на обломок штакетины в руке кинул к печке.
– Что, наквасили Тюхнины нос? – с усмешкой спросил отец.
– Это я им наквасил, обоим – и Ваньке, и Гришке! – дрожащим то ли от смеха, то ли от слез голосом сообщил Лешка.
– Правильно, бей их всех, не то тебя будут бить!.. А чего подрались?
– А чего они?! Я иду, а они пристали. Гришка первый ударил...
– Хлеб где? – перебила мать.
Алексей испуганно замолк, пытаясь вспомнить, куда делась авоська с хлебом.
– Там, наверно...
– Обормот, – мать небольно стукнула его по лбу и пошла на поиски.
Лешку прямо распирало от желания рассказать запомнившееся из драки, похвастаться. Запомнилось, в общем-то, самое незначительное, в основном, когда били его, но так хотелось поделиться торжеством! Не получилось: отец передумал слушать.
– Иди зови девок обедать.
Лешка не замечал, что нос горит и пощипывает, что спина ноет, а руками больно пошевелить, он был счастлив, как никогда в жизни. Сумел! Сумел-таки! Сколько лет ждал, сколько ночей подолгу ворочался в постели, мечтая об этой минуте. Нет, мечты были скромнее. В них он сначала разделывался с Гришкой, а потом уже с Ванькой, по отдельности. А ведь случайно все вышло, он и не ожидал, что так все кончится.
Вчера он и Гришка первыми закончили рядки. День был пасмурный, небо сочилось моросью – дождь не дождь, так что-то среднее: и с поля уйти нельзя, и работать нежелательно. Перепаханная земля с жадностью всасывала сапоги и с болью чавкала, отпуская их; картофелины выскальзывали из рук, норовили поглубже спрятаться в липкое месиво; одежда промокла – бочку воды можно выжать.
– Пошли, костер распалим, погреемся, – предложил Лешка.
Тюха убедился, что учителя в другом конце поля, возле отстающих, согласился.
– Пошли. И картошки напечем.
Огонь с трудом справлялся с сырым валежником, недовольно шипел и жутко дымил. Дым зависал под нижними ветками деревьев, ел глаза. Лешка грел красные и непослушные от холода руки над костром и время от времени сдувал с кончика носа капли, сбегающие со лба. Вскоре к ним присоединился Гилевич, угостил стянутыми у отца папиросами. Гилевич-старший набирал их сразу пачек по сто, а Вовка умело вскрывал их и забирал из каждой по паре папирос, боясь стянуть сразу пачку, потому что отец, вернувшись из Белоруссии, пересчитывает, память у него что надо, а рука тяжелая.
– И в этом году не успеют убрать, – сказал Вовка, садясь на перевернутое вверх дном ведро. – Поле только начали, а с той стороны дороги второе, пошире этого будет. Теперь дожди зарядят, погниет картошка.
– И черт с ней, кабаны поедят, – равнодушно произнес Лешка.
– Черт-то с ней, да неохота по грязи лазить. Скорей бы дождь настоящий пошел, а то третий день кисель этот.
Разговор потух, словно залитый моросью. Закурили еще по одной. Докурив, Гришка разворошил жар, перевернул картофелины.
– С одной стороны готово. – Он подкинул в костер бересты, которая горела, испуская копоть и шевелясь, как живая.
– Мухомор идет, – сообщил Вовка, сидевший к полю лицом, и швырнул недокуренную папиросу в огонь.
Мухомор – Игорь Андреевич, директорский сынок, преподаватель физкультуры и военного дела – решительно шагал к троице учеников. У края леса под деревом, ожидая его, горбилась в большом брезентовом плаще, накинутом поверх пальто, Юлия Сергеевна.
– Будем сидеть, пока картошка не испечется, – приказал Лешка.
Гилевич ожидающе посмотрел на Тюхнина. Тот подкидывал выпавшие из огня ветки и молчал. Тогда Вовка, будто пересаживаясь, отодвинулся дальше от костра, но не ушел.
– Чего сидите?! Картошку кто будет собирать?! – Игорь Андреевич снял фуражку, запустил пятерню в волосы, приглаживая их. Редкие и мягкие, они не желали быть зачесанными кверху, сползали на лоб, на глаза. И сейчас непослушная прядь, придавленная фуражкой, топорщилась между бровей.
– Погреемся и пойдем, – спокойно ответил Лешка.
– А ну, быстро на поле! – На бледном носатом лице учителя зарябили красные пятна, из-за которых он и получил кличку. – Я кому сказал?!
Гилевич схватил ведро и, забирая чуть вбок, чтобы не проходить мимо учительницы, торопливо засеменил на поле.

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](/uploads/posts/books/65247/65247.jpg)