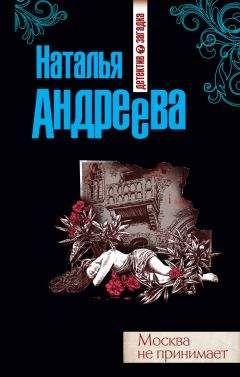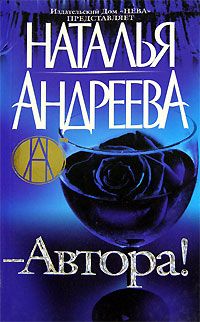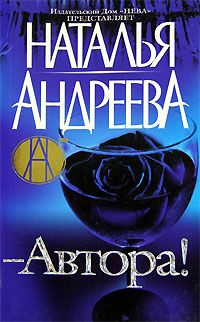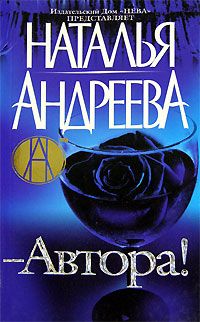Наталья Андреева - Смерть по сценарию
— На мокрое лезут, гады.
— Отходим, Леша, сил больше нет.
— Пойдем, я с тобой к соседям зайду.
Они сбежали с пруда, долго ломились в зеленую новенькую калитку, пока из дома не вышла Соня с полотенцем в руке.
— Не надоело дверь ломать?
— Вера Валентиновна не проснулась? — крикнул ей через забор Михин.
— Можете зайти, если вы не ко мне.
— Нет, буду я еще спрашивать, как представитель законной власти! — пожаловался Игорь Леонидову, заходя внутрь.
Соня в упор смотрела на них светлыми злыми глазами и ждала.
— В дом можно пройти?
— А кто вы такой?
— Сотрудник внутренних органов, ведущий расследование по делу об убийстве ныне покойного хозяина этой дачи. — Михин достал удостоверение.
— А этот? — Соня кивнула на Леонидова.
— Соседа не узнаете?
— Он что, ваш внештатный сотрудник?
— Я понятой, — буркнул Леонидов, — вдруг мы у вас тут бомбу найдем, я с удовольствием распишусь в протоколе.
— Проходите в дом, мама кофе пьет.
Почти протрезвевшая после отдыха дама пила крепкий кофе, приложив мокрое полотенце к голове.
— Как вы себя чувствуете, Вера Валентиновна? — Леонидов сочувственно посмотрел на измученное лицо прогоревшей предпринимательницы.
— А вы?
— Неплохо посидели, а? Вот мой коллега по бывшей работе зашел вам несколько вопросов задать.
— Какой работе?
— Розыскной. Я в МУРе когда-то работал, старшим оперуполномоченным.
Она так испугалась, что даже не стала уточнять, на каком основании Леонидов теперь лезет не в свое дело, просто прижала к лицу мокрое полотенце, стянув его с головы, всхлипнула и пожаловалась:
— Ну мы же ничего не сделали, просто решили здесь пожить, пока не оформим официально наследство и не продадим дачу. Жарко же, ну не сидеть нам в такое время в Москве?
— Да меня мало интересуют имущественные претензии, которые вам могут предъявить наследники, — не выдержал Михин, — меня само завещание интересует, как вы его раздобыли?
— Какое завещание? Да что вы все пристали с этим завещанием?! Я — единственная наследница по закону, и все.
— Клишин писал о том, что все имущество оставляет своему сыну, которого и признает.
— Писал! Да мало ли что он писал? Он даже собственную смерть придумал, не то что какое-то там завещание!
— А что вы знаете про его смерть?
— Ничего не знаю, кроме того, что все это бред. У меня голова болит, это ужасно гнусно, я вообще ни при чем, мне плохо, и все это кончится когда-нибудь или нет?!
— Ладно, значит, к вам надо с конкретными бумагами приезжать, так ничего говорить не хотите? Или к следователю вызывать повесткой?
— Вызывайте. Думаете, я не судилась ни с кем? Следователем меня пугает! Да меня не такие пугали, и тюрьмой вашей… пугали. Я за свой кусок горло разгрызу, и все сядут, все!!!
— До свидания. Увидимся еще в соответствующем кабинете. — Михин вышел, а Алексей присел напротив дамы.
— Здорово вас прижали, да?
— А вы кто такой? Сроду с ментами дело не имела, а еще коммерческим директором прикидывался!
— Не знаю, кого вы там покрываете, но боитесь правильно, жизнь — она только одна. Вот и госпожа Алла Константиновна Гончарова взбрыкнула, наверное, и разбилась в тот же день на своем «форде».
— Гончарова, Гончарова… Знакомая фамилия, но не знаю такую. Мало ли Гончаровых, тот тоже был Гончаров.
— Кто был?
— Да мало ли каких только в моей жизни не было! И Гончаровых, и Петровых с Сидоровыми. У меня дочь есть, ради нее все. Вы-то хоть понимаете?
— Я понимаю. Если что, заходите, Вера Валентиновна, соседи все-таки.
— Да уж, соседи! Нет, как можно после такого людям доверять? Соседом он еще прикидывался, тоже порядочным…
Михина Алексей нашел возле Сони, он что-то спрашивал, она злилась, вместе оба со стороны напоминали петуха и наседку, девушка огрызалась и явно хотела выцарапать Игорю глаза. «А я еще поженить их хотел», — ужаснулся Леонидов и подошел.
— О чем спор? — спросил он нейтрально.
— Так, девушка не хочет признаваться, что она тебе в машину подсунула конверт с творением.
— Не одна я в этой машине езжу.
— Соня, кроме тебя, у Клишина больше не было доверенных лиц на ту часть «Смерти…». Он очень мудро рассовал куски рукописи по заинтересованным людям: сначала сын решил потопить приемного отца, потом племянница — злую тетку, потом ты — профессора Гончарова, чтобы отвести подозрение от матери. Так?
— Ну и что? Если мама действительно Павла не убивала?
— Откуда такая уверенность?
— Потому что она моя мать!
— Ну да, о самых близких людях никогда такое не подумаешь.
— Да что вы привязались?! Да уйдете вы отсюда наконец или нет?!
Она побежала в дом, потом через несколько минут стремительно вылетела оттуда, сунула Михину в руки пару листков:
— Вот, все. Больше у меня ничего нет. Оставила себе на память. Забирайте! Дело возбуждайте! Только про свою мать я ничего нигде не скажу!
Она опять исчезла в доме и весьма выразительно заперла за собой дверь.
— Какая нервная девушка, а ты мне ее еще в жены предлагал, — усмехнулся Михин и развернул листки. — Еще один кусок клишинского шедевра. Хочешь для коллекции?
— А тебе?
— Я в нее уже не верю.
— Почитай хоть.
— Сам читай, а я займусь Верой Валентиновной. Хотя дай глянуть, может, это ей посвящается.
Михин прочитал, хмыкнул, протянул Алексею:
— А характер дамы все больше прорисовывается. Ознакомься.
Алексей уткнулся в листки:
СМЕРТЬ НА ДАЧЕ (ОТРЫВОК)
«…девочка. Мне ведь всегда хотелось, чтобы рядом со мной росла маленькая девочка, именно она, пахнущая детством, материнским молоком, пластмассовыми погремушками и пушистой присыпкой. Чтобы эта девочка улыбалась только мне по утрам, а на ночь целовала в щеку и желала «спокойной ночи». Это ностальгия по совершенной женщине, которую хочется из ничего создать самому, но не так, как Пигмалион создал Галатею, не для себя — для общества. Она должна была стать идеалом для других женщин, она, а не глупые тощие модели с лицами, затвердевшими под цементом искусственной красоты. Впрочем, замашки творца может найти в себе каждый, кто таскает собственное чадо по кружкам и секциям, в которые сам в детстве не попал.
А то, что у меня получилось, — плачевно, хотя я со своей девочкой просто говорил, но получалось так, что она видела и то, что я делал. Сначала надо было стать совершенным самому, прежде чем браться за работу Пигмалиона. Соню всегда принимали за мою родную сестру, такая она была беленькая и хорошенькая, как пушистый желтенький цыпленочек, в своем оранжевом платье с золотистым бантом, когда мы выходили к нам во двор, где в детской песочнице возились другие, конечно, не такие совершенные, как она, дети. У Сони всегда было много игрушек — Вера откупалась, как могла, поглощенная сначала работой, потом собственным бизнесом. Она явно переоценила свои материнские силы, дома даже года не пожелала с ребенком сидеть, ринулась в бой за сомнительные жизненные блага, подбросив девочку мне. Соня отвечала матери тем, что сразу невзлюбила плюшевых медвежат, лопоухих зайцев, кукол со стеклянными глазами и пучками искусственных волос. Она в детстве любила только одну игрушку — меня. Беря в руки очередного клоуна, одетого в яркие цветные тряпки, крутила его минуту в руках и рассерженно бросала на пол:
— Ты красивее.
— Разве? — пытался бороться с ее скверным вкусом я. — Зато его можно посадить, и он никуда не денется, не убежит по своим делам, спокойно сядет в компании других кукол и будет вместе с ними пить понарошечный чай.
— А стишки он умеет придумывать? Про краба? Паша, расскажи!
И я заводил свою шарманку в двадцатый раз:
— Жил-был краб, восемь лап, белые носочки, ползает в песочке…
Стихи Соня так и не научилась сочинять сама, она вообще была девочкой практичной, в мать, и всегда лучше считала, чем читала. Это у нее в Веру,
Вера… Да, я всегда называл свою единственную тетку просто Верой, она старше меня на десять лет и у них с моей матерью родным был только отец. Их с трудом можно было даже назвать сестрами, так они ссорились, а иногда и в открытую враждовали. Это было из-за бабкиного наследства, которое они не поделили, когда та умерла, оставив завещание, что огромный старый дом и усадьба размером в половину гектара отходит к обеим сестрам в равных долях. Моя мать никак не соглашалась свою долю ни уступить, ни продать, говорила, что в этой усадьбе ее корни и предки не простят, если чужие люди будут хозяйничать в доме и в саду. Это было с ее стороны простое, ничем не мотивированное упрямство, у нас тогда уже была и эта дача, и свой огород, но деревенский дом в ста километрах от Москвы, где мать родилась, отдать целиком в чужие руки она не хотела.