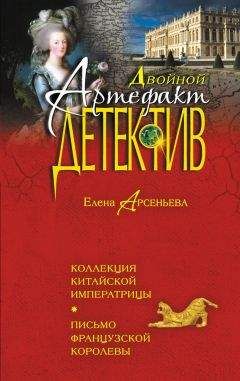Елена Арсеньева - Письмо королевы
Ну так вот – не дождетесь, господа!
– Алёна, вы меня слышите?
– Ну да. А что?
– Да вы как-то кашляете…
– Ничего, это я немножко поперхнулась, – соврала Алёна, решив не уточнять, что давится нервическим смехом.
Записала телефоны.
– Спасибо, Миша.
Ну вот, теперь надо набраться храбрости и позвонить Муравьеву…
Троллейбус остановился около Кардиоцентра. Быстро доехали. Слишком быстро.
Дверь водительской кабины открылась, в салон вошла маленькая немолодая женщина с измученным жизнью лицом.
«Так, – испуганно подумала Алёна. – Сейчас скажет – едем в парк».
Но водитель троллейбуса прошла через салон, посмотрела в заднее стекло – и вернулась в кабину.
– Надя, ты что? – окликнула кондукторша, но та не ответила.
Троллейбус тронулся.
Алёна немножко подумала, собралась с мыслями – и набрала номер.
– Слушаю, Муравьев, – ответил Лев Иваныч по домашнему телефону так, как всегда отвечал по служебному.
– Лев Иваныч, здрасьте, это Алёна Дмитриева, писательница, – быстро, чтобы не растерять решимость, проговорила она. – Лев Иваныч, вы только не подумайте, что я спятила, но тут дело по-настоящему серьезное, речь идет, во-первых, о контрабанде, о вывозе исторических материалов, имеющих баснословную ценность, а во-вторых, о возможной перемене государственного строя во Франции…
Лев Иваныч молчал. На самом деле Алёна его понимала. Она тоже молчала бы на его месте! А потом, немного придя в себя, она выпалила бы: «Ну и ну! Да ведь я так и знал, что вы сумасшедшая!»
– Ну и ну… – Лев Иваныч не выпалил, а выговорил это медленно, видимо, пытаясь освоиться со злобой дня. – Ну и ну! Да ведь я так и знал… так и знал, что это именно о вас рассказывал мне коллега Малгастадор! Но как, скажите на милость, вам удалось вмешаться в дело, которым занимается Интерпол?
1789 год
«Может, когда-нибудь, когда я, Петр Григорьев, сын Федоров, выберусь из сего Содома с Гоморрою, называемого французской державою, терзаемой революцией, я смогу обо всем написать спокойно или рассказать связно, но сейчас, по истечении сего дня, 14 июля, в голове одни сполохи мельтешат, никакого порядку нет: то себя вижу, то иные лица, то слова какие-то вырываются, звуча как бы сами собой… Лежу на лавке в приемной Ивана Михайловича Симолина, где он мне место для спанья определил, а сам будто на огненной сковородке кручусь, вспоминаючи, чего нагляделся нынче…
Что ж она такое, эта Бастилия? Теперь-то ее и следа нету! Разобрали по камушкам! А была-то огромной твердыней, одной из самых грозных крепостей, которые стояли когда-либо в городах. Она находилась у самого входа в Сент-Антуанское предместье, и выстрелами из орудий, кои на стенах ее стояли, могла бы покрыть не только предместье, но и кварталы, расположившиеся вокруг в форме звезды. Я таковых-то крепостей не видал, хоть, почитай, пол-Европы изошел!
Вот вижу, как огромная толпа бросилась к Бастилии. Все как с ума сошли. Рожи безумные, глаза горят!
Выступает вперед какой-то вояка из низших чинов и ну кричать:
– Выдайте оружие восставшему народу Парижа!
– Не сходите с ума, господа! – послышался громкий насмешливый голос, и на стенах появился господин в кирасе, так ярко начищенной, что она слепила глаза. И в шлеме его сияло солнце. Это был комендант крепости де Лонэ. – Лучше разойдитесь и вспомните о том, что творите. Не поддавайтесь на речи зарвавшихся буржуа, которые на ваших костях в рай хотят въехать, вашей кровью власти добиться. Опомнитесь!
– Ишь, красно плетет, – послышался рядом ехидный шепоток, и я не тотчас осознал, что слышу русскую речь. Поглядел – да вот же они, наши голуби, Николай Новиков и Александр Радищев. В точности такие, как их описывал Иван Матвеевич: у Новикова лицо длинное, нос длинный, глаза темные, насмешливые, губы пухлые, Радищев собой хорош, тоже темноглазый, губы тонкие, лоб высокий… Да и у Новикова лоб высокий, что ум обличает. На что ж этот ум направится?!
– Господа, – говорю я им, – я к вам от Симолина с поручением.
– Ах, еще одна нянька назначена для попечения над нами, – томно сказал Радищев, насмешливо кривя узкий рот. – Надоели все! Прочь поди, не суйся на глаза более.
Новиков фыркнул, но смолчал.
– Господа добрые, – говорю я им, – одумайтесь и уходите отсюда. Негоже русским дворянам даже из простого любопытства присутствовать при попытке другое государство уничтожить. Грех это. Все равно как муками чумного больного любоваться. Ведь не ровен час – сам тлетворную заразу подхватишь.
Новиков глянул исподлобья, Радищев оскалился. Оба не сказали ни слова. Но и послушаться меня не думали. Оно и понятно! Кто они – и кто я? А глаза их так и липнут к воспаленным лицам, красным глазам и ртам распяленным, что мелькают кругом.
Передернулся я с отвращением и невольно вспомнил стих из «Телемахиды» великого нашего пиита Василия Тредиаковского, который пса Кербера, трехглавого обитателя Аида, описывал:
– Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…
Новиков хитро так хохотнул, но тут же умолк, а Радищев разъярился, махнул на Бастилию:
– Да вон оно, чудище! Сейчас стрелять станут, узнаешь, каково лает!
В это мгновение к стенам крепости подошел какой-то солдат в мундире гвардейца.
– Юлен, это Пьер Юлен! – загомонили вокруг. – Его выбрали переговоры вести с комендантом. Ничего, что он простой blanchisseus, голова у него пудовая.
Солдат и впрямь был большеголов.
– Blanchisseus! – так и закатился Новиков. – Что за слово такое? Знаю blanchisseuse, – прачка, портомоя по-нашему, а blanchisseus – он кто? Стирщик, что ли? И это стирщика, портомойца я должен слушать? Да провались они все пропадом, голоштанники! Пошли отсюда, Радищев!
Однако тот зверем на товарища глянул и в толпу ломанулся, а Новиков махнул рукой и начал проталкиваться к краю площади. Я хотел последовать за ним, потом подумал, что этот заблудший теперь одумался, а вот Радищева надо все же вернуть. Начал проталкиваться за ним – да в эти мгновения толпа вовсе сомкнулась и зажала меня, словно в тисках, ни туда ни сюда.
Юлен что-то кричал, Лонэ не поддавался.
Послышались звуки выстрелов. Я видел во многих руках ружья и пистолеты. Более того, прикатили откуда-то небольшую пушку, поставили на лафет и пустили в сторону Бастилии ядро! Оттуда тоже прогремело несколько выстрелов, однако они быстро утихли. Стрельба с двух сторон перемежалась минутами затишья и взаимного ожидания. Вдруг несколько человек бросились к подъемному мосту, ведущему во внутренний двор, и опустили его. Опустили и другой мост, отбили его от скреп. Огромный мост упал, раздавив одного человека и поранив нескольких. Не обращая внимания на жертвы, толпа бросилась вперед и проникла во внутренний двор. Я не мог выбраться, меня несло по воле этой кошмарной волны.
– Де Лонэ! – закричал Юлен. – Вы ждете помощи от герцога де Бройля? Но помощь не придет! Из Версаля войска так и не вышли. Все полки переходят на сторону народа. Сдавайтесь! У вас сотня инвалидов, а не гарнизон, и провианта всего на 24 часа и не более чем на 36 человек. Нам все известно! Бастилию мы все равно возьмем штурмом и поднимем вашу голову на пику. Лучше сдавайтесь! Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!
Дальше все смешалось. Потом я видел белый флаг на стенах крепости и понял, что Лонэ решил открыть ворота. Толпа безумцев понесла меня вперед. Я видел, как убивали защитников крепости, которым обещали сохранить жизнь, как голова Лонэ поднялась на острие пики… чудом отпустили Юлена, крича, что он предатель и не имел права давать такое обещание.
Я не чаял, как выбраться из этой огненной и кровавой круговерти, но не мог закрыть глаза свои и пресечь своего любопытства. Я думал: коли такая страшная тюрьма, то сейчас побредут выпущенные на свободу узники, в цепях и оковах, благословляя своих избавителей. Однако из камер вывели только семерых каких-то злосчастных, которые, кажется, не слишком были довольны, скорее, боялись бушевавшего кругом отребья. Между ними видел я глубокого старца, который еле тащился, опираясь на клюку. Кто-то сказал, что это граф де Лорж, который содержался здесь в заключении более сорока лет. По лицу его текли слезы, но мне почудилось, что и это были слезы страха, а не радости.
– Тонтон! Тонтон! – послышался вдруг женский голос, который показался мне знакомым.
Я оглянулся, но не увидел ни одной женщины. Вместе со мной обернулся также и один узник, мужчина лет сорока с лицом, поглядев на которое, я подумал, что этому отребью лучше бы вернуться в узилище, дабы не оскорблять глаза тех, кто на него имеет несчастье смотреть. На нем было написано: я прощелыга, лжец, плут, негодяй и распутная скотина.
– Мадлен! – проскрипел он, пуча глаза и разевая беззубый рот. – Ты пришла за мной?
– Я пришла за письмом, дурак! – холодно проговорил тот же голос… И я обнаружил, что высоконький худенький парнишка в шляпе, напоминающей гриб-поганку, вовсе не парнишка, а…