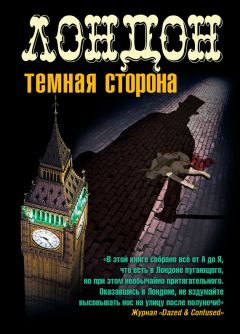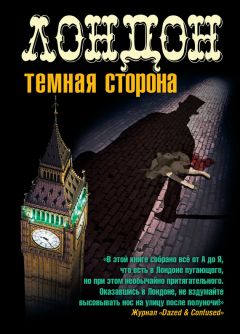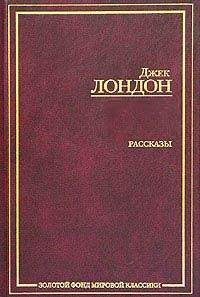Джерри Сайкс - Лондон. Темная сторона (сборник)
Я зашел в незнакомое кафе и попросил чашку чаю. Мои руки посинели, я весь дрожал. С губ человека, сидевшего напротив, сорвались слова, которые мне совсем не хотелось слышать. Голосом моего отца он произнес: «Мы хлам. Мы, ирландцы. И дети наши будут хламом. Мы даже не знаем, как любить, целовать или танцевать. Все, что мы можем, это рядиться в отрепья. Будь мы тогда в Лондоне, все обернулось бы иначе. Мы бы облачались в тончайшие шелка и разгуливали бы по Пэлл-Мэлл, высоко вскинув наши гордые головы. А знаешь, что бы мы сделали потом? Пошли бы пообедать в шикарную гостиницу. А потом, подняв тост за наше счастье, взяли бы такси до танцзала. И неважно, где он, лишь бы там играли Кляксы. Ну а уж там мы бы отплясывали фокстроты и вальсы, пока ноги не отнялись бы».
Он потянулся, чтобы ее поцеловать; тут я опрокинул чашку, и чай пролился мне на ноги.
Думаю, одним из самых замечательных дней, которые я помню, был День Подарков три года назад. Шел непрерывный снег, и город выглядел точно сказочный, как будто специально для меня он преобразился и обезлюдел. Львы на Трафальгарской площади казались еще величавей, чем обычно, благодаря мандаринским усам из серовато-белого льда.
Печальный и надменный Сохо пришелся мне по сердцу. Застрявшие в водостоках цветные подарочные обертки обладали какой-то особой поэтичностью. Я словно опять стал ребенком и брел по дорогам небольшого городка, где, увы, так давно не бывал. Я смотрел по сторонам и думал, что я принял эти места, а они приняли меня, и теперь мой дом здесь. Местный совет выделил мне квартирку недалеко от Фенчерч-стрит в пригороде Олдгейт. Неподалеку от Лиденхоллского рынка есть кафе, куда я регулярно захаживаю и сижу там за столиком в глубине зала. Хозяин кафе — итальянец и воображает себя великим умником. Он решил, что я пишу уэстэндскую пьесу. «Нет, — поправил я его. — Роман. Небольшой триллер, который я озаглавил „Лондонское задание“». Он взял мой блокнот и прочел с важностью:
— Давным-давно жил-был маленький мальчик. И жил он в убогом домишке, а потом покинул его по причинам, которых лучше не называть. Большой город в те дни был подобен осажденной крепости. Эммануэль играла на сцене Одеона. А где-то в другом месте ставили «Заводной апельсин». 26 апреля старый бродяга из Тьфу-на-все-и-вся, волей случая оказавшийся в ирландском графстве Майо, добродушно ковылял по подземному переходу, во всю глотку выкрикивая старинную балладу, но тут ему преградили путь три юнца, каждый в котелке и с повязкой на одном глазу. Они отдубасили его тростями и бросили, решив, что он мертв. В тот вечер витрины ресторана на Фрит-стрит в Сохо разнесло взрывом бомбы. Ранило тринадцать человек. Число Кэрролла. Шесть сигарет стоят пятнадцать пенсов за десять.
Он вернул мне мои записи и улыбнулся с видом собственного превосходства. Такая мина очень портила его физиономию.
— Слышали теорию Гриффита о стойкой памяти? — спросил он меня.
А потом стал объяснять эту теорию ровным размеренным тоном, явно предполагая, что мне сложно будет вникнуть в ее суть.
— Так примерно, — продолжал он. — Сознание побуждает вас держаться гипотезы, что история, которую вы сочиняете, черпая материал из заданного набора воспоминаний, это стойкая история, оправданная стойкой повествовательной интонацией…
Я почти ожидал, что снаружи из толпы выскочит Эдгар Лустгартен, подплывет по воздуху к витрине и прижмется изможденным лицом к пыльному стеклу. Через минуту-другую после начала этой непрошеной лекции я полностью отключился и больше не слышал ни слова.
Интересно, что подумали Синклер Вейн (психотерапевт на пенсии и отставной офицер 7-го Ее Величества гусар, абсолютно незнакомый мне человек) и его жена, вернувшись во Фрогнел-Уок-Хемпстед однажды ночью 1973 года? В ту ночь они обнаружили, что окно в их гостиной разбито, а я сижу внутри, разговариваю сам с собой и сжимаю в руке то, что счел смертельным оружием. На самом деле это был откровенно любительский муляж ружья; я снял с ветки дерева в садике перед домом. Могу только предположить, что они получили самое сильное в жизни потрясение. Моя черная куртка бомбиста была натянута на плечи, я дрожал и угрожающе щурил глаза. Думаю, я даже хихикнул разок-другой, и мое хихиканье вполне могло показаться зловещим.
— Я самый грозный из ирландских террористов, — заявил я. — Сейчас вы заплатите за грехи вашей страны. Простите, что приходится такое вам говорить, но так положено. Я солдат и вы солдат. Вы сейчас умрете, мистер Вейн.
Если бы я попытался его описать, то сказал бы, что он вроде Эдгара Лустгартена, только моложе, и его волосы, кое-где тронутые сединой, сохранились лучше.
Однажды, через несколько лет после того, как я оставил Брикстон, я снова встретил Вейна. Миновал снегопад, трущобы Сохо были начисто отмыты мощным ливнем, в спокойное осеннее небо поднимался пар. Он сидел у окна в новом кофе-баре европейского стиля. Среди шумного молодняка в белых футболках он выглядел абсолютно неуместным. Мне пришлось нелегко, но я все-таки рад, что превозмог себя. Сперва он не узнал меня, когда я назвал его по имени. Как и следовало ожидать, он чинно встал, глядя мне в глаза, и протянул руку для рукопожатия. Мы почти не вспоминали тот вечер. Он был опечален недавним уходом из жизни своей супруги.
— Она была ангел, понимаете? На самом деле ангел.
Я помнил ее, его ангела. Помнил, как она увидела меня в тот нелепый вечер, как истерически зарыдала в дверях у лестницы. До того, как Синклер стал успокаивать ее, он напоминал собственную фотографию на каминной полке: батальонный командир С. Вейн при полном параде властно щурится на солнце Эгреба.
Не знаю, почему я об этом думал, сидя у Сэра Ричарда Стила ничем не примечательным спокойным днем. Я вдруг отчетливо и ясно увидел, как мы с Синклером уютненько сидим в лондонском черном такси, скользящем по улице, а затем останавливающемся аккурат перед танцзалом, вход в который освещен вереницей теплых и манящих разноцветных лампочек.
— В Брайтоне всегда так было, — услышал я его слова. Дверца распахнулась, и он полез в карман, чтобы расплатиться с шофером. Но я-то знал, конечно, что ничего подобного не было. И внезапно обвиняющие руки, казалось, потянулись, чтобы схватить меня, сидящего в уголочке в полумраке Сэра Ричарда Стила.
Меня не отпустили из Брикстона на похороны матери. Но после того, как отца забрали в дом престарелых, мне передали все его бумаги и прочее личное имущество. Можете представить себе, что я испытал, когда, разбирая наследство, я нашел ту самую старинную фотографию, покоробившуюся и потускневшую, но мгновенно узнанную мною. Я не знал, что и думать, пока разглаживал ее. Потом я изучил снимок вдоль и поперек и признался самому себе, что на картинке, которой я так долго был одержим, запечатлены абсолютно незнакомые мне люди. На обратной стороне я обнаружил надпись: «Дублин, 1953». Ни папа, ни мама в жизни не бывали в Дублине.
Впору было заплакать. Я все глядел и глядел на старое фото и понемногу привык к мысли, что на нем, безусловно, «Пале», и что эти двое влюбленных могут быть кем угодно на свете. Ибо такие костюмы с аккуратными складочками, такие рубашки, такие тугие воротнички сплошь и рядом встречались в печальные ирландские пятидесятые. И у любой ирландской парочки, у любых двух неприкаянных душ, случайно встретивших друг друга в то лишенное света время, могли быть такие испуганные лица и потупленные взгляды, в которых не было места даже ничтожному лучику надежды.
«Лондонское задание» было исключительно эффективной операцией. С точки зрения британского официоза, не с моей. Или, поспешу добавить, с точки зрения Синклера. Думаю, он не хотел, чтобы мне предъявили обвинение. За день до начала суда три почтенных уборщицы, швейцар некого отеля и два иностранных туриста были разнесены в клочья в ресторане на Пиккадилли. Это событие повлияло на мой приговор и на последовавшую за ним отсидку.
Сегодня, в 90-е, я живу в основном за счет пособия и того, что часок-другой по вечерам собираю стаканы в пивной. Полагаю, что я хорошо известен в Олдгейте. Никто не догадывается о моем темном прошлом. Я живу в многоэтажном доме недалеко от станции. Порой, когда мне становится одиноко, меня можно встретить сидящим над тепловатым светлым пивом в «Ободе и Гроздьях» или в саду Тринити-сквер, где я кормлю голубей, окруженный шумным, ненасытным, амбициозным молодняком. Иногда мне надо побыть возле тех, кто верит в будущее. Стереоплееры Уолкмен только входили в быт в 1974-м. Меня запихнули в фургончик, и я не видел дневного света до середины 95-го. Где-то в глубине моей усталой души еще жива детская невинность, и, погружаясь в трепет струн и мягкое приглушенное гудение труб джаза в стиле 30-х, скользя тенью по золоченым улицам Сохо, я воображаю себя одиноким рыцарем дорог.