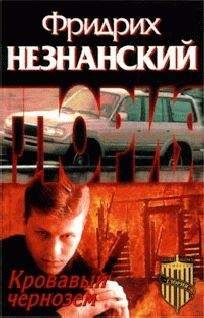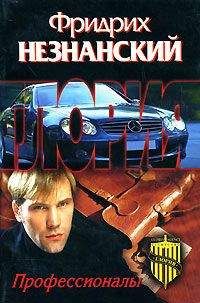Фридрих Незнанский - По живому следу
Второй протонный ускоритель, причем примерно с теми же характеристиками, был второй достопримечательностью Троицка. Он представлял собой длинное — два километра — заброшенное здание, на крыше которого росли деревья. Поистине фантастический пейзаж, напоминающий скорее фильм Андрея Тарковского «Сталкер», нежели российскую действительность.
Так что родиться в семье физиков, как это сделал в далеком 1964 году красный, сморщенный, орущий младенец, нареченный впоследствии Борькой, было в Троицке делом обычным. Да и пойти по родительским стопам, как поступил уже подросший Борис через семнадцать лет, тоже не особо выдающееся деяние.
В школе учеба давалась Борису довольно легко. Отец даже не заглядывал ни в его домашние задания, ни в дневник. Иногда Борису даже хотелось, чтобы его проверяли, хотя бы ради того, чтобы похвастаться хорошими отметками, но родители были настолько заняты своей работой, что почти не уделяли сыну внимания.
И только по лени он не стал золотым медалистом, да и к чему особенно стараться, если никто этого все равно не замечает? Хотя отец и удивился, узнав, что его сын не стал лучшим учеником среди одноклассников.
А лучшей ученицей стала Роза Шаяхметова — смуглая красавица, в которую Борис был влюблен в младших классах. Особенно ему почему-то запомнилось, как в первом классе маленькая девочка с кожей оливкового цвета плакала, закрыв лицо руками, — только что она получила первую свою «четверку». Роза, всхлипывая, поделилась с подругами, что за эту «четверку» ее будут дома бить. Маленький Боря сидел за партой позади нее и все слышал. В течение двух лет он следовал за ней почти незаметной тенью, даже сам не отдавая себе отчета, зачем он это делает. Это казалось ему естественным. И так же естественно для него было прекратить это преследование в третьем классе, когда в классе появилась новая девочка.
Он вспоминал, что все свое детство так и был чьим-то скромным почитателем, почти незаметным в своем обожании. Однако же так получилось, что до самого выпускного класса у него так и не было девушки — всех одноклассниц он знал уже как облупленных, и они годились разве что в хорошие друзья, но никак не в музы. Борис слишком быстро привыкал к людям, и в их поступках для него уже не было увлекательной неожиданности, а была лишь раздражающая предсказуемость. Ну а влюбленность с раздражением довольно плохо сочетаются.
После школы он недолго думал, куда пойти учиться и кем быть. За свою короткую жизнь он настолько привык к не очень логичной мысли, что раз папа и мама — физики, то и он должен стать физиком, что безо всяких сомнений и препятствий (сработала, конечно, не протекция отца, но его фамилия) он поступил в МФТИ на факультет молекулярной и химической физики, а если проще, то на физхим.
Почти все факультеты института располагались в подмосковном городе Долгопрудном — когда-то некие мудрые основатели этого достойного учебного заведения подумали, что в Москве не учеба, студенты только отвлекаться будут, а не заниматься своим образованием. На том и порешили — теперь поколения физиков воспринимали Долгопу, как они коротко называли место нахождения своей альма-матер, как свою вторую родину. Бог весть сколько километров наездил Борис из Троицка в Долгопрудный. Конечно, в Долгопе у него было место в общежитии, но он не относился к тому разряду людей, которые готовы делить комнату еще с кем-то только на том основании, что эти люди так же, как и он, изучают физику.
Так что для Бориса студенческие годы хоть и пролетели со скоростью кометы, но не стали искрящимся, веселым фейерверком и чуть ли не самым ярким периодом в жизни, какими они кажутся очень многим. Да и друзей особых он за это время не завел. Конечно, уже после окончания института он не раз встречался с одногруппниками, но в принципе был по натуре скорее одиночкой.
Что, впрочем, не помешало ему жениться на Лю-баше. Она училась все в том же МФТИ, но на факультете физико-химической биологии и курсом младше. Факультет этот по праву считается самым «женским» в институте — девушек на нем, как правило, учится четыре-пять, а не две-три на факультет.
Познакомились они случайно, что, впрочем, довольно обычно для такого возраста: специально знакомятся на вечерах «Кому за тридцать». Это произошло девятого мая — день, в который Бориса угораздило появиться на свет.
Шумная компания (хоть Борис их и не жаловал, но раз в году все-таки устраивал подобные сборища) ввалилась в его квартиру, откуда благоразумные родители еще накануне выехали на дачу.
Любаша в этой компании оказалась самой скромной. Борис увидел ее впервые — она была девушкой одного из Борисовых однокурсников. Практически весь вечер она сидела в уголке и молчала, улыбаясь чужим шуткам. И почти не пила, а потому до утра додержались лишь они с Борисом — у того устойчивость к алкоголю была самой яркой чертой.
Любашин парень уснул под столом одним из первых.
— Привет! — вдруг сказал тогда все-таки хмельной Борис.
— Здравствуй, — спокойно и чуть насмешливо улыбнулась девушка этому запоздалому приветствию.
— А ты кто? — не унимался Борис.
— А ты? — не давала ему спуску незнакомка.
Ну а потом были, как и полагается, романтические весенние свидания, поцелуи у подъезда и прочие вселяющие надежду на неземное счастье совместной жизни соловьиные трели.
Разве мог Борис тогда подумать, что через год, когда они поженятся, эта скромная, молчаливая девушка вдруг окажется до противного практичной, абсолютно лишенной такта женщиной. Оказалось, что она умеет зло улыбаться. Оказалось, что она обожает бить посуду. Оказалось, что она неспособна пожарить картошку, не спалив ее. Оказалось, что абсолютно не выносит табачного дыма. Короче, жизнь с ней казалась раем, а оказалась мучением. Только что полученную квартиру мужа в Троицке она вдруг решила поменять на жилье в Москве, но, к счастью, родители Бориса, которые ему эту квартиру «сделали» правдами и неправдами, вовремя уследили и не дали ходу этим вражеским поползновениям.
Спустя год Борис поспешил подать на развод. Любаша же развода не давала. Их бракоразводный процесс ее стараниями длился еще два года. За это время она успела настолько вымотать Борису душу, что он уже был готов уйти от нее босиком в деревню, по примеру Льва Николаевича Толстого.
Когда наконец дверь за ней захлопнулась в последний раз, Борис понял, что выражение «быть на седьмом небе от счастья» не просто литературный оборот.
Сидя на кухне и с наслаждением дымя сигаретой, Борис подводил некий жизненный баланс. Ему было двадцать семь лет, он был кандидатом наук и просиживал штаны в одном из московских НИИ. В качестве того, что называют жизненным опытом, у него имелся лишь этот самый развод с женой да полузабытые уже институтские годы. Даже в армии он не был — по причине обыкновенного плоскостопия. Лузанский понял, что стать кем-то выдающимся, как это мечталось в детстве, ему явно не светит. Он был обычным человеком, заурядной, незаметной пешкой, никому не нужным винтиком. Он даже и сам не знал, с чего бы это вдруг на него нашел такой припадок самоуничижения. «В конце концов, я не дурак, у меня есть высшее образование. Не красавец, но и не урод. Деньги, хоть и небольшие, зарабатываю», — успокаивал он себя. Он закурил еще одну сигарету, пошел в комнату и включил телевизор. Показывали «Лебединое озеро». Борис переключил канал, но ничего другого не нашел. За окном шел дождь, напоминая о скорой осени. Шел август девяносто первого года. Борис переживал кризис и переоценку ценностей вместе со всей страной.
С тех пор дела его пошли еще хуже. Где-то наверху вдруг решили, что ученые тратят громадные государственные деньги исключительно для удовлетворения собственного любопытства, и финансирование научно-исследовательских институтов прекратилось. Борис Лузанский не почувствовал несправедливости в этом решении — он понимал, что лично он ничего для развития науки все равно не делает. Так что он даже и не думал роптать на новые условия жизни. Он вообще был очень непритязательным человеком.
По коридорам института разносился пренеприятнейший запах.
— Опять Соловьев свое золото выпаривает, — проворчал Никита Ровенский.
— Тебе-то что? — равнодушно заметил Борис, наливая из чайника заварку и стараясь не пролить ее на стол — носик чайника был отбит.
— Постеснялся бы хоть, — продолжал свое Никита. — Чем он занимается на рабочем месте?
— А ты чем? — вновь возразил Борис. Ровенского он недолюбливал: тот вечно был чем-нибудь недоволен.
— Я хотя бы не посторонними делами занимаюсь, — встал в позу Ровенский.
— Так занялся бы, — усмехнулся Борис. — Чем болтать как баба.
Ровенский обиженно замолчал. Борис отхлебнул из чашки горячего чаю. Так за чаем и перепалками с Ровенским проходили дни, недели и месяцы. Пока институт неожиданно не подключили к Интернету. По слухам, это доброе дело совершил всемогущий Сорос в поддержку какого-то проекта, который двигал один из немногих действующих в НИИ ученых. Этим, кстати, стали выгодно отличаться обычные НИИ от бывших «ящиков» — институтов, находившихся в ведомстве ВПК — военно-промышленного комплекса. Если раньше вовсю финансировалась прикладная физика, которой и занимались «ящики», то сейчас большей вероятностью оказывался грант от какого-нибудь Сороса, выданный на развитие фундаментальной физики. От государства же давно перестали ждать денег — даже отопление и свет оплачивали из средств, полученных за аренду сдаваемых помещений. Любопытный факт — в 1994 году на всю фундаментальную физику было потрачено денег меньше, чем на восстановление Белого дома. То есть в бюджете было заложено больше, но на Белый дом были выданы все заложенные деньги, а на физику — четырнадцать процентов.