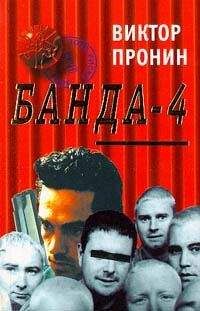Фотография с прицелом (сборник) - Пронин Виктор Алексеевич
Анфертьев… Вернемся к нему, позабыто сидящему в приемной и рассматривающему в окно заводской двор. Там снова забегали электрокары, сдвинулись грузовики, раскурили наконец рабочие по сигаретке и упал с крыши кирпич, два года страшновато провисевший в воздухе напротив окон второго этажа. Его раскачивало осенними ветрами, на нем скапливался снег, он разогревался на летнем солнце, а по ночам его освещала потерянно висевшая луна. Упал кирпич, будто его и не было в судьбе странных двух лет, когда он жил по другим законам мироздания. О, сколько у него будет воспоминаний и как возненавидят его другие кирпичи… Но это другая история.
Дело, которое предстоит Анфертьеву, настолько необычно, что, право же, лучше не оставлять его ни на минуту. Вот он легко спрыгнул с подоконника и, ощущая покалывание в ноге от долгого сидения, прошелся по ковровой дорожке – высокий, подтянутый, насмешливый, в сером костюме, рубашка тоже серая, но светлее, галстук производства Чехословацкой Социалистической Республики, красный с еле заметной светлой ниткой наискосок. У небольшого зеркала он остановился и пристально посмотрел себе в глаза, будто спрашивая себя о чем-то важном, будто советуясь с собой.
За это время Вадим Кузьмич немало передумал, многое потеряло для него всякую ценность, но зато обрели влияние на его судьбу события, которым раньше он не придавал значения. Так бывает и с теми, кто уже решился потревожить свой Сейф, а свой Сейф есть у каждого, и с теми, кто пока еще не додумался до этого, кто колеблется и прикидывает.
Анжела Федоровна докричала очередной нагоняй какому-то мастеру и, оторвавшись от микрофона, недоуменно посмотрела на Анфертьева.
– А ты чего здесь торчишь? Директор вызывал? Ну и иди. – Представляете себе недоумение домохозяек округи, которые два года не слышали зычного баса Анжелы Федоровны и ничего не знали о жизни завода! А в каком положении оказались наши плановые органы, министерства и ведомства, на два года лишившиеся производственных мощностей завода! Но надо отдать им должное, они сумели перераспределить заказы таким образом, что на общем итоге это не отразилось. Впрочем, они могли и не заметить исчезновения завода по ремонту строительного оборудования, и такое случается.
Анфертьев поправил галстук, толкнул дверь и вошел в кабинет.
– Здравствуйте, Геннадий Георгиевич!
– А, Анфертьев… – хмуро проговорил Подчуфарин, еще не оправившись после пробуждения. – Что скажешь?
– Осень, Геннадий Георгиевич. Осень.
– Ну и что? – Красноватое лицо директора выразило удивление. – Что из этого следует?
– Зима следует.
– Это хорошо или плохо?
– Плохо.
– Почему? – спросил Подчуфарин, раздражаясь. Разговор с фотографом затягивался.
– Падает освещенность предметов. Приходится увеличивать выдержку, открывать диафрагму. Это, в свою очередь, приводит к потере резкости изображения. О чем я вас заранее предупреждаю. Отсутствие резкости на снимке уменьшает количество подробностей, в результате информационная насыщенность фотографии падает.
– Да? – Подчуфарин выразительно посмотрел на Квардакова, и тот в мимолетный миг встречи своего взгляда с директорским успел, все-таки успел, проходимец, состроить горестную гримасу. Дескать, что взять с человека – фотограф! – Да, – опять протянул Подчуфарин. – Скажи, Вадим, ты бы пошел на мое место?
– Конечно, нет.
– Почему? – обиделся директор.
– Мне пришлось бы отказаться от многих вещей. Думаю, что приобрел бы я меньше, чем потерял.
– И что бы ты потерял? – спросил Квардаков, чувствуя неловкость оттого, что разговор идет без его участия.
– Самого себя, например.
– Ха! Велика потеря! – хмыкнул Квардаков и преданно уставился на директора белесыми, узко поставленными глазами.
Подчуфарин помолчал, выпятив губы, передвинул календарь на столе, в окно посмотрел, на поблекшие клены, на капли, падающие с крыши мимо его окна, на серое небо, заводскую трубу…
– Ты полагаешь, что со мной это уже произошло?
– Может быть, не полностью, не окончательно…
– Ты не прав, Анфертьев. Ты не прав. Ты совершенно не прав. Разве ты не отказываешься от самого себя, занимаясь работой пустой и никчемной? Разве ты не пренебрегаешь своими желаниями, проходя мимо магазина только потому, что у тебя пусто в кармане? А здороваясь с постылыми людьми, желая успехов сволочи, поздравляя подонка, разве ты не предаешь самого себя? Разве не становишься при этом и сам немного мерзавцем, а? Анфертьев!
Подчуфарин, сам того не подозревая, разбил последнее пристанище Вадима Кузьмича или, скажем иначе, убрал с его пути последнее препятствие. Возможностью оставаться самим собой, жить открыто и просто оправдывал Анфертьев собственные неудачи, незавидность положения, мизерную зарплату. Все это давало ему ощущение уверенности в отношениях с женой, позволяло с чувством собственного достоинства заниматься не больно почетным делом. Но теперь, когда эти соображения были разоблачены, Вадиму Кузьмичу стало легче. Так бывает – происходит вроде бы пустячное событие, но оно приносит свободу, ты волен сам принимать решение, и нет уже гнетущей зависимости от чьего-то мнения, взгляда, от собственной нерешительности, ты освобожден от порядочности, в конце концов.
– Я мог бы сказать вам, Геннадий Георгиевич, что само понятие оставаться самим собой зависит от того, о ком идет речь…
– Брось, Вадим! Это несерьезно. Есть широкий круг вещей, необходимых каждому человеку, признание ближних, внутреннее достоинство, основания, чтобы относиться к себе с уважением. Конечно, что-то приходится приносить в жертву, и тогда наши руки оказываются в крови. Не важно то, что мы получаем. Если мы пожертвовали барашком и получили от богов дождь – это прекрасно! Это выгодно! Да, приходится лишаться духовной или нравственной девственности. Но девственность – это не та вещь, которой стоит гордиться слишком долго. А, Анфертьев? – спросил Подчуфарин, стараясь не смотреть в сторону похотливо хихикающего Квардакова. – Наступает день, когда она становится позором, неполноценностью, когда о ней и заикнуться стыдно. Тебе не приходило это в голову, Анфертьев?
– Нехорошо, Геннадий Георгиевич, – усмехнулся Вадим Кузьмич. – Словами тешитесь. Получается, что позорно быть девственно чистым, да? И нужно совершить подлость, куплю-продажу самого себя, чтобы стать нормальным человеком? Вы благополучно избавились от духовной и нравственной девственности? Что же мы имеем в результате? Директора Подчуфарина? Какого барана вы принесли в жертву, чтобы получить от богов этот дар?
– Ты считаешь, что директор Анфертьев был бы результатом более значительным?
Квардаков вертел головой, пытаясь поймать момент, чтобы захихикать и этим поддержать директора, потом в ужасе закрывал рот ладонью, чтобы не закричать невзначай от тех бесстыдных слов, которые произносил уважаемый товарищ Подчуфарин, директор Геннадий Георгиевич.
– Да что он вам скажет, Геннадий Георгиевич, дорогой! Что он может сказать! – Квардаков перенес тяжесть тела с правой ягодицы на левую, потом в обратную сторону, потом приподнялся да так и оставался в полуприподнятом состоянии, уставившись на Анфертьева, взглядом моля его не перечить, не огорчать начальство.
– Слушаю тебя, Анфертьев, – улыбнулся Подчуфарин. – Неужели директор Анфертьев был бы божеским даром для всех нас?
– Не надо, Геннадий Георгиевич. Не надо. Этого из моих слов не следует. Даже то, что вы не можете сейчас позволить себе разговаривать со мной легко и просто на равных… Да, да, на равных…
– На равных?! – Квардаков встал, и шерсть его на мохнатом пиджаке поднялась дыбом от возмущения и гнева. – И ты такое мог…
– Успокойтесь, Борис Борисович, – Анфертьев поднял руку. – Я не стремлюсь в президиум, не хочу принимать производственные решения, подписывать приказы, не прошу повышения зарплаты, квартиры, бесплатной путевки в заводской дом отдыха… Мы говорим о посторонних вещах. Так почему бы нам не поговорить о них на равных, с высоты нашего опыта, возраста, а не с высоты кресла, должности, поста… Почему мы должны быть заранее уверены, что чем выше у человека должность, тем он…