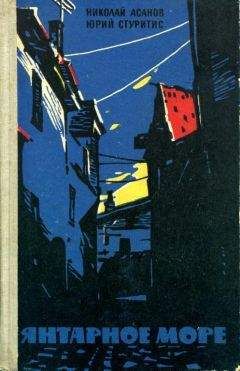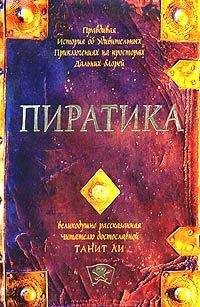Екатерина Лесина - Проклятая картина Крамского
Л. просто очередной дамский угодник, которому безразлично, кого воспевать. Он весьма собой хорош, и я знаю дам, которые не устояли пред его обаянием. Он и сам говорит о них с насмешкой, потеряв к прежним любовям интерес и не понимая, что подобное неуважение лишь отвращает меня. Я несколько раз просила его подыскать себе другую жертву, но он почему-то пребывает в уверенности, что мои просьбы рождены лишь моею скромностью, а на деле же я давно тайно влюблена в него. Хуже, что его уверенность передается прочим. И нашлись те, кто предложил поучаствовать в созидании личного моего счастья.
Отказать ему от дома?
Оскорбится.
А хуже оскорбленного мужчины может быть только обиженная женщина. Это я про Амалию, которая зачастила в наш дом. Дорогая гостья… Часами просиживает подле моего мужа. Утешает, стало быть. Или же пытается таким образом вызвать во мне ревность? Единственно, я не понимаю, что Давид в ней нашел. Разве что единственную особу, способную выслушивать его жалобы и нотации. Но, думаю, случись сим нотациям затронуть саму Амалию, она не выдержала бы долго.
Скажу честно, дорогая сестрица, он мне надоел.
Нет, я не легкомысленная особа, страдающая от собственной ветрености и привычки влюбляться в каждого, кто хоть сколько-то мил. И Давиду я благодарна за помощь его, но, господь видит, я устала от постоянных его нравоучений, от подозрений, которые не имеют под собою основы. И даже когда он молчит, то в молчании этом мне чудится неодобрение.
Так жить невозможно!
Он буквально бредит возвращением в деревню, не понимая, что там мне совершенно нечего делать! Он мечтает запереть меня в глуши, и будь на то его воля, не остановился бы перед тем, чтобы заставить меня закрывать лицо, как то делают восточные девы.
Я пытаюсь дозваться до его разума, но усилия мои тщетны.
И, полагаю, во многом за то следует благодарить Амалию, которая, змея, шепчет… да и не она одна. Многим моя популярность пришлась не по нраву. И стоит ли удивляться, что эти многие – женщины, что молодые, пребывающие в поиске супруга, что матушки их, тетушки и прочие родственницы, озабоченные лишь благоустройством своих подопечных. Рядом со мною их девицы глядятся тусклыми и скучными, как это и есть на самом деле.
Честно говоря, порой меня удивляет это всеобщее стремление меня опорочить. Но, милая моя сестрица, не следует волноваться. Никогда-то я не дам по-настоящему веского поводу.
И даже с супругом постараюсь примириться.
Письмо вспыхнуло и сгорело, лишь серые клочья пепла на мгновенье поднялись над пламенем. И почему-то стало вдруг холодно… Неприятно…
Матрена поежилась.
Зима. Зимы в Петербуге иные, чем в поместье. Промозглы и сыры, сдобрены снегом, но при том снег этот какой-то серый, застиранный будто. Темно. Даже днем темно, и от этой темноты становится неуютно.
Матрена вздохнула.
Письмо… и вправду бы стоило написать сестрице, вдруг да та волнуется? Как-никак единственный по-настоящему близкий человек… Если вдруг что-то с Матреной случится, то кто о ней горевать станет?
Давид?
Некогда она бы не усомнилась в том, а ныне муж вдруг отдалился. Он и ворчать-то перестал, отвернулся, делая вид, что Матренины дела ему не интересны… Петенька? Дорогой сынок… Все тут полагают, что Матрена к сыну равнодушна, но это неправда.
Ей просто…
Неуютно под нянькиным строгим взглядом. И в редкие встречи Матрена чувствует себя не матерью, а чужой женщиной. И Петенька сторонится… Что ему рассказывают?
Может, и вправду вернуться?
Ненадолго… год или другой… родить еще одно дитя… Мысль о беременности вовсе не радовала. Тело вновь расплывется, кожа сделается дурна, волосы сыпаться начнут, невзирая на все маски и притирания. Зато Давид будет счастлив… и, быть может, примирится… вернется… Ей все же не хватает его, прежнего, готового часы проводить подле.
И рассказывать… О чем же они говорили?
О чем-то важном. Только удивительно, что Матрена все забыла. Если бы и вправду важное было, неужто она бы и в самом деле забыла?
Главное, что тогда Давид на нее надышаться не мог.
А теперь… Определенно, стоит вернуться. Сказать, что она сожалеет… Хотя неправда, не сожалеет она. Нынешняя жизнь – для нее. И что дурного, если Матрена немного ей увлеклась? Небось, и сам Давид, сказывали, некогда вел себя весьма и весьма вольно…
Но пускай, не время меряться обидами.
Простить.
И собрать семью, которая вот-вот разлетится на осколки… Свекровь будет рада… Нет, не надо думать о таком. Развод? Ради сына Давид не станет себя позорить, и его тоже… Петеньку он любит беззаветно, и порой Матрена искренне завидует этой любви. Быть может, Давида просто не хватает на то, чтобы любить двоих сразу?
Она оглянулась на камин.
Пламя пылало ярко, только жара не давала. А несчастное письмо, от него и пепла не осталось…
– Вернуться? – Давида неурочный визит супруги вовсе не обрадовал. Он писал письмо.
Амалии.
И пытался отделаться от мысли, что некогда все же совершил ошибку… Ошибаются все, а матушка шепчет, что ошибаются все, и исправить ее не поздно.
Если подать прошение о разводе…
Удовлетворят.
Дорого обойдется, но не дороже, чем новые наряды Матрены Саввишны… Откуда она только взялась, сия великосветская особа, будто бы и вправду рожденная в каком-нибудь родовитом семействе. И куда исчезла милая его Матрена?
Высший свет преобразил ее.
Преображение это пришлось Давиду не по вкусу.
– Вернуться. – Матрена, не дождавшись приглашения, присела. – Амалии пишешь?
В голосе ее проскользнули ноты… обиды?
Недоумения? Не понимает, отчего это супруг сделался равнодушен к ее чарам, предпочитая Амалию?
– Она мой друг. – Давид разозлился, с чего бы это он должен оправдываться? Сам-то он давно уже перестал считать друзей супруги, которых было слишком много, чтобы запомнить всех.
– Конечно. – Она примиряюще улыбнулась. – Я не… упрекаю тебя… Мне не за что тебя упрекать… и, наверное, стоит попросить прощения, что я… немного увлеклась, но…
Она вздохнула.
– Вернемся, Давид… Я соскучилась по Петеньке… и устала… Поживем в деревне месяц… два…
– И пропустим сезон? – сказал он с насмешкой.
Если бы она предложила уехать месяц тому…
Два…
Да он с радостью ухватился бы за эту спасительную мысль. Но ныне она не вызывала ничего, помимо… недоумения?
– Пускай. – Матрена не спешила уходить. – Сезон – это, в сущности, пустяк… Помнишь, мы были так счастливы…
– Я был счастлив, – поправил Давид, с сожалением откладывая недописанное письмо. По Амалии, которой пришлось уехать, он скучал, не имея более достойных собеседников. – А ты, помнится, жаловалась, что в деревне тебе скучно. Ты задыхалась там. Что изменилось?
– Я изменилась.
Что ей было ответить?
Давид не знал. Да и не желал знать. Искать причину, чтобы не ехать, ибо не так давно сам настаивал на возвращении, а тут… Мысль сия больше не казалась удачной.
Поместье.
Тишина.
И время для двоих. Прежде именно эта уединенность и привлекала Давида, а ныне он не понимал, о чем ему будет беседовать с этой вот чужой женщиной.
– Хорошо. – Он все же не ответил отказом. – Я подумаю… Быть может, позже… к весне…
Ей пришлось уйти.
…милый мой друг.
Ныне случилось так, что моя супруга обратилась ко мне с просьбой, отказывать в которой я не стал, хотя и не испытываю желания соглашаться. Она, ощутив, что брак наш дал трещину, вознамерилась восстановить былые отношения. Я же явственно осознал, что не имею ни малейшего желания возвращаться к прошлому. Напротив, ныне, оглядываясь на себя, минувшего, я удивляюсь собственной слепоте и глупости. Любовь? Ты права, Амалия, она ослепляет и лишает разума.
Она заставила меня совершить поступок, последствия которого мне придется пронести всю оставшуюся жизнь. И пусть матушка моя явственно намекает на развод, но сие будет нечестно по отношению к Матрене, которая пусть и не такова, какой мне представлялась, но по-своему порядочна. Невзирая на все те отвратительные слухи, которые во многом не более, нежели пустословие, она не давала мне повода усомниться в своей верности.