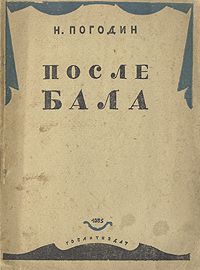Зухра Сидикова - Тайна
А вот единственный цветной рисунок. Девушка с длинными золотыми волосами лежит на полу в комнате, подсвеченной голубоватым светом, на груди ее расцветает огромный багровый цветок.
Вот что она рисовала вчера всю ночь! Она была там! Она все видела!
В доме ее не было. В окно он увидел, что она у клумбы с мольбертом, наверное, рисует хризантемы… или этот дурацкий пейзаж… а может и другое что-нибудь? - вдруг со злобным отчаянием подумал он.
Быстрым шагом прошел в кабинет, открыл верхний ящик стола, в который положил вчера пистолет и фотографию. Ящик оказался пустым.
Он поднял голову, взглянул в окно.
У клумбы Леры уже не было.
- Максим, ты это ищешь? – услышал он ее ясный и чистый голос за спиной.
Он обернулся.
Она стояла в дверном проеме, освещенная солнечным светом.
В руках она держала пистолет.
Узкое черное дуло дрожало перед его глазами.
- Лера! – сказал он и не узнал своего голоса. – Лера!
- Я не Лера, - произнесла она все тем же чистым и ясным голосом, - я не Лера. Я – Лена. Никитина Елена Павловна.
Часть вторая
Лера
Глава первая
Мама умерла при родах. Родила меня и ушла из нашей жизни, молодая, красивая. Подарила нам, дочкам, свою красоту и волосы, рыжие как солнце. Так говорил папа. А еще она оставила мне свое имя – Елена.
Моя сестра Ольга была старше меня на шесть лет. Отец уходил в лес, и она оставалась со мной - кормила, укладывала спать, играла. Потом учила ходить, говорить. Подносила к зеркалу, и повторяла: «Алена, Алена, так тебя зовут - Алена, Аленушка». И вскоре я к удивлению и радости отца тоже залепетала: «Алена, Алена», но только почему-то решила, что Алена – это и есть эта девочка с рыжей косичкой, которая всегда рядом. Я любила ее как ребенок любит мать, была привязана к ней всем сердцем, не могла без нее ни минуты. Она была для меня и заботливой мамой, и верной подружкой в детских играх, и любящей сестрой, а позже и строгой учительницей. Отец смеялся, пытался объяснить мне: «Нет, доченька, ну как же ты не поймешь, это Оля, Олюшка, а Алена – это ты. Твою маму так звали – Аленушка». Но я упрямо называла сестру Аленой. Вскоре и папа стал ее так называть. А меня, чтобы не путать, называли Леной, Леночкой. И это была еще одна память о маме, отразившаяся и удвоенная в нас. Теперь мы обе носили мамино имя.
Я вспоминаю это время, проведенное в нашем бревенчатом лесном домишке, как самое счастливое в моей жизни. Мы были неразлучны с Аленой, обожали отца - большого, доброго, веселого. Когда он приходил из леса, мы забирались к нему на колени. От него пахло лесом, дымком, порохом. Я и сейчас помню этот родной отцовский запах.
- Ну-ка, дочки, - говорил он, - поищите-ка птичек у меня в бороде. Уснул я под елкой в лесу, а одна птаха решила, что моя борода сгодится ей для гнезда и вывела в ней птенцов. Ну-ка посмотрите, не пора ли их кормить?
Мы хохотали и ворошили папину густую бороду.
Когда мы подросли, стали ходить с отцом в тайгу. Лес завораживал меня своей необъятностью, своей тишиной. Отец рассказывал нам обо всех его тайнах: о повадках животных, о деревьях, цветах и травах. Учил ловить рыбу, искать грибы, ягоды, и еще учил главному: не причинять вреда, беречь, сохранять покой тайги, с уважением относиться к ее обитателям, брать от нее только самое необходимое, не тревожить ее без причины. И сам свято чтил это правило, был безжалостен к браконьерам.
Это был удивительный человек. Очень добрый, очень любящий, но справедливый, умеющий быть твердым, если нужно. Наверное, он тяжело переживал смерть мамы, Алена рассказывала, что он очень любил ее. Но старался нам этого не показывать, всегда шутил, смеялся. Только иногда, глядя на Алену, - она была очень похожа на мать, - вздыхал, гладил ее по рыжей голове.
Иногда заходил к нам папин старый товарищ, охотник Георгий Петрович, живший в охотничьей заимке еще дальше, глубже в тайгу. Работал он на промысле, добывал пушнину, выбирался редко, только летом - в поселковый магазин за сахаром, чаем, мукой - и на обратном пути всегда заходил к нам. Он приходил с гостинцами: вкусными вишневыми карамельками и золотисто-коричневыми твердыми сушками, нанизанными на бечевку, и мы долго пили чай, неспешно беседуя обо всем на свете. Жил он одиноко, без жены, без детей, и мы для него стали той единственной отрадой, о которой он мечтал, наверное, целый год долгими вечерами вдали от человеческого тепла, в одиночестве, посреди необъятной тайги. Георгий Иванович очень любил меня, всегда приносил мне что-нибудь особенное: то огромную кедровую шишку, полную крепких ароматных ядрышек, то диковинное пестрое яйцо, то перо какой-нибудь невиданной птицы. И я отвечала ему той же детской искренней привязанностью. Это был самый близкий мне человек после отца и Алены. Но к Алене Георгий Иванович испытывал особенные чувства. Он гордился, восхищался ею. Сам, будучи первоклассным охотником, в те недолгие часы, которые он проводил с нами, он учил Алену стрелять, учил охотиться, и всегда удивлялся ее способности схватывать все на лету, ее уму, ее недюжинной физической силе. «Вылитая мать, - говорил он про Алену, - с такой и медведь не справится». Алена и вправду была очень похожа на мать, какой она была на фотографиях, какой была в рассказах отца и Георгия Петровича. Высокая, рослая, сильная, как мама, в свои четырнадцать она управлялась с делами, которые не всякому взрослому были бы по силам.
Мы жили в двадцати километрах от деревни, и люди говорили отцу, что нельзя держать детей одних в лесу, ведь отец уходил в тайгу иногда на два и на три дня, а мы с Аленой оставались одни. Советовали отдать нас в интернат: «Ведь девочкам нужно учиться». Но отец не хотел с нами расставаться, да и мы не смогли бы жить вдали от него. Мы учились дома. У нас было много книг, с Аленой отец занимался сам, а меня читать и писать учила Алена. Она была очень способной. «Умница моя!» - говорил отец всякий раз, когда в школе на экзаменах, которые она сдавала раз в год, она получала пятерки. В тот последний наш год, и мне предстояло сдать экзамены за первый класс. Я уже бегло читала, писала в прописи красиво и чисто, Алена хвалила меня. Но мне не трудно было учиться, она была очень терпеливой учительницей, и умела объяснять так, что я понимала с первого раза.
Она была хорошей сестрой. Заплетала мне косички, стирала мои платьица, готовила. В доме всегда было убрано, натоплено. У нас был маленький огородик, где мы сажали с ней овощи, зелень. И когда однажды, прослышав, что девочки живут в таежной избушке без матери, к нам в отсутствие отца приехали две толстые важные дамы из районного центра забирать нас в интернат, они были так удивлены видом нашего теплого уютного жилища, обедом, которым угостила их Алена, чисто выстиранным бельем, которое сушилось на аккуратно протянутых между соснами веревках, моими огромными красными бантами в косичках, что только качали головами. Я, забравшись на стул, громко и выразительно прочла наизусть письмо Татьяны к Онегину, показала свои рисунки и все Аленины грамоты - и за английский язык, и за шахматы. Они растрогались, одна из них, та, что была моложе, все целовала меня, и вытирала украдкой слезы, и, повздыхав: «бедные детки», они уехали восвояси, поняв, наверное, верным женским чутьем, что нельзя нас разлучать, что дома нам лучше.
Этот последний год, когда мы были вместе, когда жили своей размеренной, тихой, неразрывно связанной с тайгой, жизнью, запомнился мне отчетливо и ясно, хотя прошло уже больше двенадцати лет.
Помню одно утро. Я проснулась очень рано, в доме еще все спали. Отец в этот день остался дома, и это казалось таким счастьем, таким предвкушением радостного, полного маленькими домашними событиями дня: вместе будем завтракать за нашим большим грубо сколоченным из досок столом, потом пойдем на прогулку, вернувшись, будем вместе готовить обед, а потом сидеть у печки, и отец будет рассказывать свои замечательные истории, будет просматривать и хвалить мои рисунки, а потом мы споем что-нибудь вместе.
Я проснулась от того удивительного серебристого света, который лился в окна. Я вскочила, побежала к окну. И ахнула, пораженная. За ночь выпал снег. Первый в том году. И так волшебно, так чудесно поменял все вокруг. Серебряный свет исходил от белых, подсвеченных неярким утренним солнцем деревьев, осыпанных белым чистым снегом. Он сверкал на солнце, переливался сияющими серебряными искорками. Восхищенная этой удивительной волшебной картиной, я стала будить папу и Алену, кричала: «Вставайте, вставайте, лес - серебряный! Вставайте!»
Дрожа от нетерпения и восторга, я заставила их одеться и выйти на улицу. Снег лежал девственно чистый, сияющий белизной, искрящийся. Зачарованно смотрели мы, как посеребренная солнцем, торжественно и тихо расстилалась перед нами тайга. Мы взялись за руки, и закружились, запрокинув головы, смеясь и радуясь тому, что вокруг такая красота, что мы вместе. Я видела смеющиеся глаза отца, слышала звонкий смех Алены, и не было никого счастливей меня. Ведь рядом со мной были самые дорогие, самые любимые люди.