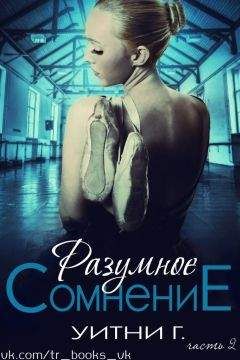Леонид Словин - Победителям не светит ничего (Не оставь меня, надежда)
Рындин погасил сигарету и уставился в одну точку. Прошло минут пять. Внезапно явственно послышался шорох. Он вздрогнул и оглянулся, но потом понял: это Карина!
Если секретарь знала, что он в кабинете один, она вела себя тихо, как мышь.
— Карина, — позвал он, — зайди-ка ко мне…
Она тут же появилась в кабинете.
Каждый раз эта женщина выглядела чуточку другой. Сегодня она не казалась крупной: с жирком в теле, но небезобразным. Как фламандцы любили в рубенсовские времена. Темные влажные глаза ее смотрел на него с собачьей преданностью.
— До каких я свободна, Олег? Он обвел взглядом всю ее фигуру и коротко бросил:
— Примерно до часа… Только никуда не уходи, пока я не скажу.
— Что ты…
Она вышла из кабинета в приемную. Рындин подошел к двери, выходящей на балкон, отодвинул тяжелую итальянскую занавесь, нащупал руками металлическую перекладину, которую купил в «Селфриджере» в Лондоне. Достал с полочки тальк, посыпал на руки, растер и, крепко обхватив руками перекладину, стал подтягиваться.
— Раз… Пять… Десятьть… Шестнадцать… Двадцать один… Тридцать…
Закончив упражнеие, снова уселся за стол. Звонить еще раз в клинику не стал. Друзья и компаньоны — друзьями и компаньонами, но известную дистанцию соблюдать необходимо, иначе себе же навредишь.
Проснулся телефон. Звонил тихо и успокаивающе. Эту модель привезли из Америки: там умеют играть удобными пустячками. Все для удобства и только для него…
— Да! — отрывисто бросил Рындин и встряхнул длинной шевелюрой. Он еще ощущал на пальцах растревоженные мозоли от под тягивания.
— Наркоз сделан… — Это Аркашка. — Зрачки не реагируют…
Рындин скрипнул зубами: начинается…
— Резервуары для органов подготовлены?
— Все сделано…
Он сжал челюсть и резко втянул в себя воздух.
— Вводите сыворотку…
— Вводи сыворотку, — как эхо выстрела в горах отозвался где-то там голос Аркана, обращенный к работающей бригаде.
Молчание. Рындин ощутил запах формалина. Он знал, что ему это только кажется, но ничего не мог с этим поделать. Всегда в таких случаях его преследует тень морга.
— Ждем десять минут. На всякий случай.
— Ждем десять минут. На всякий случай… — повторил там, куда не достигал его взгляд, компаньон. И сбился на визг.
Нервишки погуливают у братишки…
— Не вздумайте пить, — в голосе Рындина зазвучала угроза.
Часы на стене были беззвучными, но Рындину казалось, он слышат, как они отсчитывают время.
Минуты? Да нет, если судить логично — только секунды.
Что-то вдруг звякнуло. Металл о стекло…
Где? Нет, это там — в операционной. Вот ведь слышимость?
Еще четыре деления на циферблате, и — шесть минут прошло…
В прихожей опять звонит телефон. Кто — интересно?
Теперь уже семь с половной. Еще две с половиной минуты…
Дыхание в трубке стало более частым: трус, блин!..
Девять и двадцать секунд… Девять пятьдесят три…
«Спокойней!» — дает себе команду Рындин. Ровнее пульс, глубже дыхание — есть!
«Десять… Минута в минуту…»
— Начинайте! — отчетливо произносит, нарочито безразлич ным, как ему кажется, голосом Рындин.
— Начинаем, — визгливо повторяет Павленко…
Рындин снова сжал глаза до пятен и боли. Так он достигал равновеся внутреннего спокойствия.
— Разрез сделан…
— Продолжайте, — произносит он просто чтобы что — то сказать.
— Сердце…
В голосе по другую сторону телефона, звучит плачущая нотка. Не хватает только истерики!..
Всякий раз с Аркашкой одно и тоже. Идиот! Приходится успокаивать.
На этот раз Рындин грубо его одергивает:
— Спокойней, иначе сорвешься. И сделаешь что-нибудь не так. Сосредоточься. Ну!..
Тот, наверное, вздрогнул. Интересно бы сейчас увидеть его глаза…
Рындину мерещится пульсирующее сердце человека, которого он никогда не знал и уже не узнает. Теперь уже не человека даже, а просто — донора. И закон чилась она при неблагоприятном для него стечении обстоятельств только от того, что его жизненный путь и цели доктора Олега Рындина неожиданно пересеклись.
Сердце запихивают в резервуар с раствором.
— Уложили! Сейчас упаковываем.
Теперь надо проверить: готова ли бригада в другой опера- ционной.
Рындин набирает номер по второму аппарату, там у телефона Геннадий Кавторадзе.
— Мы готовы, Олег…
Сколько он им внушал: никаких имен!
Голос его холоден и бесстрастен:
— Подготовься… Машина вот — вот выедет…
Потом приказывает Павленко.
— Отсылай! Там уже ждут.
— Отсылай, там уже ждут… — обреченно кидает тот.
Обоим еще у Рындина учиться и учиться.
Он ждет, держа в руках обе трубки. Начинает про себя считать. Так обыденней.
— Почки! — голос у компаньона такой, словно его выжали, как мокрое белье, а теперь повесят сушиться на веревку.
Еще полминуты… Минута… Минута и пятнадцать секунд…
— Резервуар готов…
Рындин чувствует, что пульс у него набирает скорость. Такое, наверное, происходит с космонавтами во время взлета.
— Печень… — звучит почти шепот в трубке. Этот сукин сын выводит его из себя своей сопливостью. У Рындина болят мышцы.
Он так и знал: сейчас высморкается. И тот сморкается. Рындину хочется покрыть его отборным матом.
— Селезенка…
От напряженя все сейчас внутри него взорвется. У Рындина начинают дрожать руки, и он двигает ртом, как рыба, попавшая на крючок.
— Дальше сам, — бросает он. — Продолжай…
Он вспотел. Вытирает пот.
Отключает телефоны.
Выходит к секретарю.
На него страшно смотреть. И он тоже может смотреть только в сторону…
Анастасия и Алекс Крончер шли рядом по заснеженной Москве. В столицу пришел мороз. Серебрились от снега крыши, окна расчвечивали цветные абажуры.
Мимо быстрыми шагами пробежали возвращавшиеся с катка девочки фигуристки в рейтузах и курточках с меховыми опушками…
Крончер шел, чуть склонив голову и о чем-то думая.
— Я достану деньги…
— Какие? — не поняла она.
— На операцию…
Она взглянула на него ошарашенно и тревожно. Помолчала, только чуть глуше стал голос.
— Ты — миллионер?
— Нет! — акцент его уже не казался ей таким неприятным, как раньше.
— Твои родители — владельцы крупной кампании?
— Пока нет, — улыбнулся он, и ей показалось, что где — то зажегся фонарик, и все вокруг стало веселей и уютней.
— Где же ты их возьмешь? — слегка придвинулась она к нему и задорно блеснула серыми глазами.
— Продам машину, — сказал он.
Она прикрыла глаза и отвернулась. Затем снова приблизилась к нему.
— Сколько это?
— Ну, — шмыгнул он носом. — Тысяч пятнадцать… — А еще пятнадцпть?
— Возьму ссуду в банке…
Она вдруг схватила его за голову и, глядя на него повлажневшими глазами, отчетливо произнесла:
— Дурак! Но ты милый и добрый дурак…
Он не двигался.
— Почему? — спросил он.
— Потому что… Потому что… Потому что я не больна… десяток метров они прошли молча.
— Ты как будто даже не рад тому, что узнал.
— Что ты?! Просто я плохой полицейский для России… — он вздохнул. Ведь я должен был сам об этом догадаться…
— О том, что я не больна? Почему же?
— Потому, что никакая ты Виктору не сестра…
— Ты знаешь, что ты похож на ежика, Алекс Крончер?
— Теперь буду знать…
— О чем еще ты должен догадаться? — лукаво улыбнулась она.
— Что оба вы — работники милиции. У вас говорят — менты.
Она помолчала, как будто ждала, что он что — то скажет или сделает.
— Скажи, — ты когда-нибудь по своей инициативе целуешь женщин?
— Нет, — ответил он ей на полном серьезе. — Жду, когда они сделают это сами.
— Тогда ты не дождешься…
Она метнулась вбок, к краю тротуара, где замаячил огонек такси.
— Ты большой дурак, капитан Крончер. когда-нибудь ты это поймешь, но будет поздно.
Она резко открыла дверцу остановившегося такси и вместо прощания бросила:
— Все вы, мужики, — идиоты Где бы не родились и где бы не жили.
Такси рвануло в снежную пыль…
Как и следовало предполагать Чень оказался человеком ре шительным и оперативным: не откладывал на завтра то, что можно сделать сегодня.
На следующий день в полдень Панадис был на улице Горького, у Ченя. Квартира напомнила бакинцу открытый через полстолетия для всеобщего обозрения склад вышедших из употребления старых вещей. Громоздкая мебель, запах перепревшего плюша и бархата, давно не сменявшиеся, словно бы покрытые перхотью обои.
Чень оставил его одного в гостиной и попросил подожлать.
Панадиса не оставляло неприятное чувство будто он тоже находится здесь как некий экспонат: вроде примуса или керо синки, и уже не принадлежит самому себе.