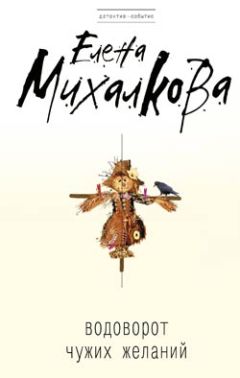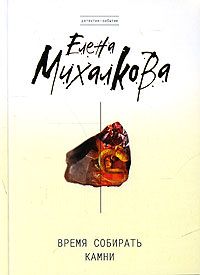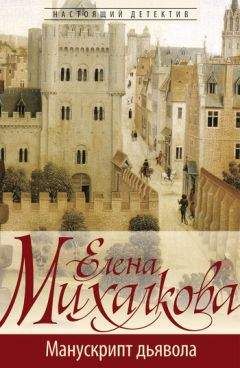Елена Михалкова - Водоворот чужих желаний
„Немного же времени тебе понадобилось, чтобы стать такой же, как они. Хочешь вцепляться зубами? Вцепляйся! У тебя хорошо получается. Ты молодец. Ты все делаешь, как надо. Немного черствости, чуть побольше равнодушия, добавить капельку своих проблем – и вот он, славный Человек Перехода. Не слышит чужих просьб, потому что в ушах наушники, а в голове мысли о своем. Не хочет смотреть на других, чтобы и они не смотрели на него. Не подает музыкантам – не потому, что у него нет денег, а потому, что для него ничего не значит их музыка. Ты почти стала такой, я тебя поздравляю“.
Голос в ее голове звучал одобрительно, и это было самым страшным. Катя перевела дыхание и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она отошла к стене, опустилась на корточки, постаралась глубоко вдохнуть. „Это… это не я! Просто что-то нашло на меня…Что-то злое, неправильное, нехорошее! Я ведь вернулась, правда? Я все-таки помогла ей. Я ни за что не прошла бы мимо!“
„Прошла бы, – тихо сказал внутренний голос. – Ты почти сделала это“.
„Да. Я не просто прошла. Я подумала о том, что глупая тетка орет на весь переход из-за ерунды, и мне хотелось, чтобы она замолчала, потому что ее крик раздражал меня. Что со мной? Что со мной случилось?“
Не думая о том, как она выглядит, о том, что пуховик будет грязным, что нужно торопиться к Маше, Катя горько расплакалась, уткнув голову в колени.
Такой и увидел ее Андрей Капитошин, возвращавшийся домой на метро первый раз за последние три месяца и проклинавший на чем свет стоит глухие московские пробки, о которых сообщил ему вездесущий Яндекс.
Глава 11
Эмма Григорьевна и Алла Прохоровна сидели в кафе, потягивая невкусный зеленый чай. Одна не любила кофе, вторая слишком заботилась о своем здоровье.
„С чего бы начать? – Шалимова пристально взглянула на Эмму Григорьевну, поколебалась секунду. – Нужна она мне, нужна! Без нее ничего не получится“.
Орлинкова широкой ладонью поправила и без того безупречную прическу – гладкие блестящие волосы лежали ровно, волосок к волоску. Короткое каре шло Эмме Григорьевне, придавало ей солидности и благородства, но Шалимова вдруг представила ее с длинными распущенными волосами, и Орлинкова тут же превратилась в простую бабу с самым обычным лицом. „Хороший парикмахер для женщины – находка, я всегда это говорила!“
Она уже подготовила вступительную фразу, как вдруг Эмма Григорьевна привстала со стула.
– Гляньте, Алла Прохоровна. Кто там стоит? Уж не Кочетова ли?
Она ткнула пальцем в окно, и насторожившаяся Шалимова, проследив за ее пальцем, увидела на противоположной стороне улицы Снежану, которую держал под локоть какой-то тип. Девушка смотрела по сторонам, и лицо у нее было напряженное. Белая челка торчала, как сено, из-под кокетливого берета, и пару раз Кочетова нервным движением провела по ней пальцами, пытаясь придать волосам приличный вид.
Мужик рядом с Кочетовой был на полторы головы ниже ее, широкоплеч, коренаст, с кривыми ногами „колесом“ и неприятной физиономией.
– Ишь ты, ухарь какой, – пробормотала Орлинкова.
Алла Прохоровна мысленно согласилась с ней. Спутник Снежаны и впрямь был ухарем.
– Какой-то он… уголовный, – поморщилась она, глядя, как ухарь одергивает короткую, до пояса, кожаную куртку и снова берет Кочетову под руку хозяйским жестом.
– Приблатненый молодой человек, – хмыкнула Эмма Григорьевна. – Совсем не пара нашей красавице.
– Смотрите, смотрите, он ее ведет!
Спутник Снежаны, видимо, устал ждать и решительно повел ее за собой прочь от дороги, и вскоре странная пара свернула за угол дома.
– Удивительно неподходящий для нее тип. – Орлинкова махнула рукой, подзывая официантку. – К тому же мне казалось, что Кочетовой интересен Таможенник.
– Мало ли, кто ей интересен, – глубокомысленно возразила Шалимова в восторге от открывшейся возможности посплетничать.
Орлинкова крайне редко снисходила до обсуждения иных вопросов, кроме рабочих, и потому Алла Прохоровна даже оставила на время мысли о теме, которая заставила ее пригласить главного бухгалтера в кафе.
– Дети, дети, – добавила она, умиленно улыбаясь. – Для нас с вами, Эмма Григорьевна, они совсем еще дети.
Орлинкова покосилась на нее, но заметила только:
– Вы ведь работали в школе, Алла Прохоровна?
– Завучем, – вздохнула та. – Признаться, скучаю по тем временам. Конечно, деньги в школе смешные, но видеть внимательные детские глаза – это такое счастье! И когда они слушают тебя, затаив дыхание, ты понимаешь, как важен для них учитель. Мне не хватает их беготни, криков, их любознательных вопросов…
Шалимова спохватилась, что слишком впала в сентиментальность, и замолчала. Детей она возненавидела со второго месяца работы в школе, и к тому моменту, когда уволилась, ее ненависть стала устойчивой и постоянной. Дети были омерзительны. Они орали, бегали, выкрикивали глупости и в массе своей были совершенно тупы. Она искренне недоумевала, почему в школах отменили физические наказания. Алле Прохоровне, не имевшей своих чад и так и не сходившей замуж, было очевидно, что детей любого возраста нужно пороть, возможно, даже без причины, в профилактических целях. „С другой стороны, для любого ребенка найдется причина, по которой его следует выпороть“, – думала Шалимова, с ненавистью глядя на маленьких поганцев, которых не интересовала география, а интересовали жвачки, велосипеды и прочая чушь.
Правда, Алла Прохоровна и сама была абсолютно равнодушна к собственному предмету. Что в ее глазах совершенно не извиняло школьников, которых требовалось успокаивать по пять минут, прежде чем начать урок.
К концу ее преподавательского стажа сила белой ненависти, исходящей от Аллы Прохоровны, была такова, что ученики чувствовали ее и выстраивались по струнке. На уроках географии у Шалимовой была безупречная дисциплина, чем она заслуженно гордилась. Ее боялись! „И правильно“, – радовалась Алла Прохоровна, вслух не забывая упоминать о своей любви к детишкам. Она чувствовала, что не все могут разделить ее искреннюю нелюбовь к ним, а мнению общества Шалимова придавала большое значение.
– А я, признаюсь, не хочу детей, – сказала Эмма Григорьевна с солдатской прямотой. – Никаких – ни своих, ни чужих. Они меня раздражают.
Шалимова понимающе кивнула и пожалела, что ударилась в трогательные воспоминания о беготне и детских глазах. Получалось, что бухгалтер – из своих, с ней можно не притворяться.
– Раньше мы с мужем хотели ребенка, но больше так, для порядка, – продолжала Орлинкова. – Вроде как семья без детей – это и не семья вовсе. Но не получилось. А потом я подумала… И вот что поняла. Мы ведь с вами лошади, Алла Прохоровна.
– Кто? – изумилась Шалимова.
– Лошади. Только не орловские рысаки, а тяжеловозы. Тягловые такие клячи. Посмотрите на себя: вы и жнец, и швец, и на дуде игрец. Все можете, за все беретесь. Надо будет – горы свернете для Кошелева.
Алла Прохоровна промычала что-то невнятное, что было расценено Орлинковой как согласие.
– Вот и я такая же. Всю жизнь все тащу на себе. Как с юности впряглась в телегу, так и волоку ее на своем хребте.
– Вы же замужем, – осмелилась вставить Шалимова.
– Замужем. А что муж? Я хоть с мужем кляча, хоть без мужа. Еду надо приготовить – приготовила. Картина упала – дырку новую просверлила. Стол привезли – собрала. Ремонт сделать – да пожалуйста. Если мой супруг Иван Демидович заболеет, так он пластом лежит и только бульончика куриного просит. А я за всю жизнь пару раз болела – один раз ногу сломала на гололеде, второй раз спинной нерв защемила. И все. Все!
– Значит, вы счастливый здоровый человек, – глубокомысленно заметила Алла Прохоровна.
В ответ Орлинкова горько усмехнулась.
– Здоровый, говорите? Как бы не так. К нашему с вами возрасту хочешь не хочешь, а болячек наберешь! Вот и я набрала. Только что мне с тех болячек? Хоть и корчусь, а все равно работаю. Давление у меня последний месяц скачет так, что в ушах звенит.
– Вам бы тогда отлежаться…
– Кто же мне даст отлежаться с этим тендером, будь он неладен? Не одно, так другое свалится. В общем, посмотрела я на свою жизнь, Алла Прохоровна, и поняла, что не хочу никаких детей, чтоб остаток жизни вдобавок и их на себе возить. А хочу пожить для себя. Да не клячей, а принцессой.
У Шалимовой вертелась на языке острота про принцессу, но она благоразумно сдержалась. Эмма Григорьевна, несмотря на вспышку откровенности, была женщиной суровой, и забывать о том не следовало.
– Как же вы хотите… принцессой?
– Так, чтобы вокруг меня побегали, а не я бегала. Сейчас я сама и мамонта забью, и разделаю, и приготовлю, и мужа накормлю, и спать уложу. А хочется, чтобы мне этого мамонта разнесчастного приносили на блюдечке с вишенками и приговаривали: „Кушайте, Эмма Григорьевна, не стесняйтесь“. А вишенки пускай были бы без косточек!