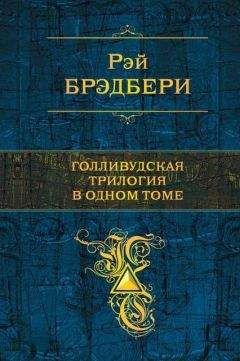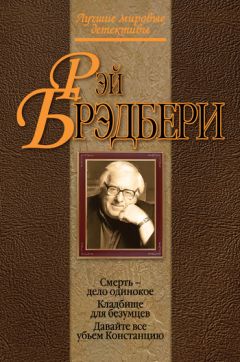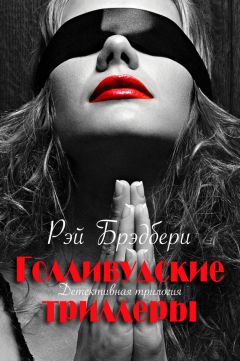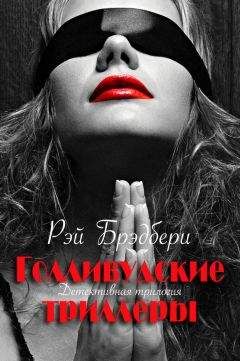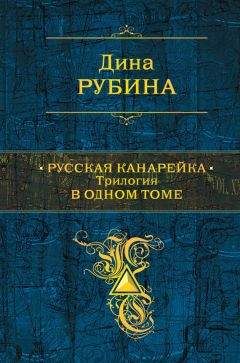Рэй Брэдбери - Голливудская трилогия в одном томе
Это была самая лучшая панихида из всех, какие я когда-либо наблюдал, если только так можно сказать о панихиде. Меня никто не просил выступать, да и с какой стати? Но другие брали слово на одну-три минуты и вспоминали Чикаго в двадцатых годах или Калвер-Сити в середине двадцатых, тогда там были луга и поля и МГМ возводила там свою лжецивилизацию. В ту пору раз десять в году вечерами на обочину возле студии подавали большой красный автомобиль, в него садились Луис Б. Майер с Беном Гётцем и остальными и играли в покер по дороге в Сант-Бернардино, там они просматривали последние фильмы с Джильбертом[139], или Гарбо, или Наварро[140] и привозили домой пачки карточек с предварительными оценками: «шикарный фильм», «дрянной», «прекрасный», «кошмар» – и долго потом тасовали эти карточки вместе с королями и дамами, валетами и тузами, стараясь представить, какие же, черт возьми, у них на руках взятки. В полночь они снова собирались за студией, играли в карты и, благоухая запретным виски, вставали со счастливыми улыбками или с мрачными, полными решимости лицами посмотреть, как Луис Б. Майер ковыляет к своей машине и первый уезжает домой.
И сейчас они все были здесь, и их речи звучали очень искренне и очень проникновенно. Никто не лгал. За каждым сказанным словом угадывалось большое горе.
В разгар этого жаркого полдня кто-то взял меня за локоть. Я обернулся и ахнул:
– Генри! Ты-то как сюда добрался?
– Уж конечно, не пешком.
– Как же ты нашел меня в этой толпе?
– Мылом «Слоновая кость» от тебя одного пахнет, от всех других «Шанелью» или «Пикантным». В такие дни, как сегодня, я радуюсь, что я слепой. Слушать все это – еще ладно, а видеть никакой охоты нет.
Выступления продолжались. Теперь речь держал мистер Фокс, адвокат Луиса Б. Майера, законы он знал назубок, но вряд ли смотрел фильмы, выпускаемые студией. Сейчас он вспоминал прежние дни в Чикаго, когда Фанни…
Среди ярких цветов порхала колибри, вслед за ней появилась стрекоза.
– Подмышки, – тихо произнес Генри.
Поразившись, я выждал, а потом спросил шепотом:
– Что еще за подмышки?
– На улице перед нашим домом, – зашептал Генри, глядя в небо, которого он не видел, и цедя слова уголком рта, – и в коридорах. Возле моей комнаты. И возле комнаты Фанни. Пахло подмышками. Это он. – Генри помолчал, потом кивнул. – Он так пахнет.
В носу у меня защипало. Глаза заслезились. Я переступал с ноги на ногу. Мне не терпелось бежать, расследовать, искать.
– Когда это было, Генри? – прошептал я.
– Позавчера. В тот вечер, как Фанни ушла от нас навсегда.
– Ш-ш! – зашипели на нас те, кто стоял поблизости.
Генри замолчал. Дождавшись, когда выступающие сменяли друг друга, я спросил:
– Где это было?
– В тот вечер, до того как с Фанни случилось, я переходил улицу, – прошептал Генри. – И запах там стоял крепкий, прямо разило. Потом мне показалось, что эти Подмышки идут за мной по коридору. Потому что запахло так, что у меня аж лобные пазухи пробрало. Словно гризли в затылок дышит. Ты когда-нибудь слышал, как дышит гризли? Я когда улицу переходил, так и замер, будто меня клюшкой саданули. Подумал, если кто так пахнет, то он, не иначе, всех ненавидит – и самого Бога, и собак, и людей – весь мир! Попадись ему под ноги кошка, он ее не обойдет – раздавит. Одно слово – ублюдок! А пахнет от него точно подмышками. Это тебе может помочь?
Я оцепенел. Мог только кивнуть, а Генри продолжал:
– Я запах подмышек учуял в коридорах еще несколько дней назад, просто он тогда был слабее, а вот когда эта сволочь ко мне подошла… Ведь ногу мне подставил как раз мистер Подмышки. Теперь я это понял.
– Ш-ш! – опять шикнули на нас.
Выступал какой-то актер, потом священник, потом раввин, а в заключение между памятниками промаршировал хор Первой баптистской церкви, что на Центральной авеню, они выстроились и стали петь. А пели они «Мой в небе край родной, мой в небе дом», «Встретимся ли мы с тобой, где святые все поют?», «Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы благие, скоро все мы будем там».
Такие божественные голоса я слышал разве что в конце тридцатых, когда Рональд Колман[141], одолев снежные пики, спускался в Шангри-Ла или когда в «Зеленых пастбищах» такие рулады раздавались с облаков. Но вот райское пение смолкло, а я так расчувствовался и возликовал, что Смерть предстала передо мной в новом обличье – желанной и залитой солнечным светом, и колибри снова запорхала в поисках нектара, а стрекоза задела крылышками мою щеку и улетела.
Когда мы с Крамли и Генри выходили с кладбища, Крамли сказал:
– Хотел бы я, чтобы меня проводили на тот свет под такое пение. Вот бы петь в этом хоре! И деньги не нужны, если так поешь.
Но я не спускал глаз с Генри. Он чувствовал мой взгляд.
– Дело в том, – проговорил он, – что этот мистер Подмышки снова к нам повадился. Можно подумать, хватит уже с него, верно? Но его, видно, голод мучает, хочется творить подлости, не может остановиться. Запугивать людей до смерти для него в радость. Причинять боль – он этим живет. Он и старого Генри хочет погубить, как сгубил других. Но не выйдет. Больше я не свалюсь. Ниоткуда.
Крамли серьезно прислушивался к рассуждениям Генри.
– Если Подмышки снова появится…
– Я вам дам знать inmediatamente. Он шляется у нас по дому. Я застал его, когда он ковырял запертую дверь Фанни. Комнату ведь запечатали, такой закон, да? Он возился с замком, а я как закричу! Спугнул его. Он же трус, ручаюсь. Оружия у него нет, зачем ему? Ногу слепцу и так можно подставить, свалится с лестницы за милую душу! Я так и наорал на него: «Подмышки! Скотина!»
– В другой раз вызывай нас. Подвезти тебя? – спросил Крамли.
– Нет, кое-кто из недостойных леди из нашего дома захватил меня с собой, спасибо им. Они меня и отвезут.
– Генри! – Я протянул ему руку. Он сразу схватил ее, будто все видел.
– Скажи, Генри, а чем пахнет от меня? – спросил я.
Генри понюхал, понюхал и рассмеялся.
– Вообще-то, теперь таких бравых парней, как раньше, не бывает. Но ты сойдешь.
Когда мы с Крамли уже порядочно отъехали, нас обогнал лимузин, выжимавший семьдесят миль в час, спеша оставить позади заваленную цветами могилу. Я замахал руками и закричал.
Констанция Раттиган даже не обернулась. На кладбище она держалась в стороне, пряталась где-то сбоку, а сейчас мчалась домой в гневе на Фанни – как та посмела нас покинуть – и, возможно, негодуя на меня, считая, что я каким-то образом навел на них Смерть, предъявившую свой счет.
Лимузин скрылся в бело-сером облаке выхлопных газов.
– Гарпии и фурии пронеслись мимо, – заметил Крамли.
– Да нет, – возразил я, – всего лишь растерявшаяся леди спешит скрыться, и ей это необходимо.
Следующие три дня я пытался дозвониться до Констанции Раттиган, но она не отвечала. Она хандрила и злилась, и в ее глазах, черт знает почему, я был связан с тем человеком, который как тень бродил по коридорам и совершал злодейства.
Пытался я позвонить и в Мехико-Сити, но Пег тоже не было. Мне казалось, что я потерял ее навсегда.
Я бродил по Венеции, присматривался, прислушивался, принюхивался, надеялся услышать тот страшный голос, учуять тлетворный запах чего-то умирающего или давно умершего.
Даже Крамли куда-то запропал. Его нигде не было, сколько я ни высматривал.
В конце этих трех дней, измученный тщетными попытками дозвониться и несостоявшимися встречами с убийцами, выбитый из колеи похоронами, я возроптал на судьбу и выкинул такое, на что раньше никогда не решился бы.
Около десяти вечера я брел по пустому пирсу, сам не зная куда, пока не пришел в нужное место.
– Эй! – окликнул меня кто-то.
Я схватил с полки ружье и, даже не проверив, заряжено оно или нет, не посмотрев, не стоит ли кто рядом, начал палить. Бах, бах! И бах, бах! И еще бах, бах, бах! Я сделал шестнадцать выстрелов!
И услышал, как кто-то кричит.
Ни в одну из мишеней мне попасть не удалось. До этого я ни разу не держал в руках ружья. Я и сам не знал, во что целюсь, впрочем, нет – знал!
– Вот тебе, сукин ты сын! Получай, гад! Будешь знать, мерзавец!
Бах, бах и опять бах, бах!
Патроны кончились, но я продолжал жать на спусковой крючок. И вдруг понял, что стараюсь впустую. Кто-то отобрал у меня ружье. Оказалось, это Энни Оукли. Она таращилась на меня так, будто видела в первый раз.
– Вы понимаете, что творите? – спросила она.
– Не понимаю и понимать не хочу, идите вы все знаете куда? – Я оглянулся. – А почему у вас так поздно открыто?
– А что делать? Спать не могу, а заняться нечем. А с вами-то, мистер, что стряслось?
– Через неделю в этот час на всем нашем несчастном земном шаре никого в живых не останется.
– Неужели вы в это верите?
– Не верю, но похоже на то. Дайте мне еще ружье.
– Да вам уже и стрелять-то неохота.