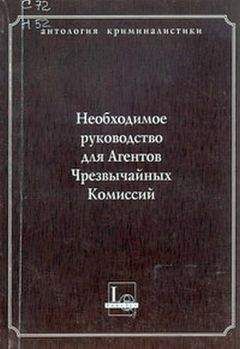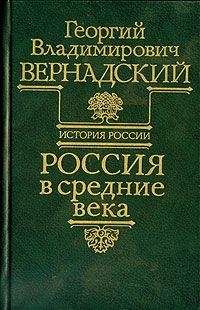Георгий Лосьев - Вексельное право
И тотчас взяла другой тон:
– А как думаете куплять? И со скатерками, занавесками? У нас в кладовке еще тулуп овчинный да две шубейки…
– Стоп! – зыкнул покупатель. – Не тяни, баба!
Евстигнеева снова всхлипнула, но тут же утерлась подолом и, устремив на лохмача совершенно сухие глаза, выпалила:
– В таком разе и в две сотельных не уложишься. Вот что я вам скажу: вещи наши по-честному нажиты и первого сорту. Две с половиной заплатишь?
– Эк тебя раздирает, пролетарочка! – усмехнулся лохмач. – А ты мне нравишься, бабенция! Что ж, быть по-твоему.
И он отсчитал двадцать пять бумажек.
– Бери! Ты отлично оправдываешь мою теорию о людях. И у нас могло бы возникнуть родство душ, если бы… Если бы ты была менее омерзительна. Ну, хотя бы на полтинник!.. Ну, а теперь, парнокопытные, вот что: у ворот меня извозчик дожидается, скажите ему, чтобы нес сюда вещи. А вы – сматывайте монатки!
– Дык вить продали мы… – недоуменно заморгал Евстигнеев.
– Все, что хотите, можете взять с собой. Давай сюда возницу!
Через несколько минут вошел рыжебородый мужик и поставил посреди комнаты два тяжелых чемодана старого фасона – с мягким верхом и множеством ремней.
– Ты, борода, отвези этих двуногих в мои меблирашки и прихвати, что укажут. Сколько я должен?
– Семь гривен.
– Вот тебе, борода, два целковых! Это и за двуногих, которых повезешь.
– Премного благодарствую! Однако накинуть не мешало бы: двое пассажиров, и сундук вон напихивают, – тяжесть…
– Держи еще целковый!
– Вот таперича так. Очень вами довольны. Жить да поживать на новой фатере!
Возница взвалил на загорбок сундук и направился было к выходу, но лохмач окликнул:
– Стой!
Подошел к Евстигнееву и вдруг трижды крепко дернул его за огненную бороду.
– Теперь ступай, сволочь рыжая!..
В дороге возница поинтересовался:
– Сходно продали фатеру-то?
– Продать-то продали, да кому?.. – мрачно ответил Евстигнеев. – По волосьям вроде – поп, по ухватке – бандист. А ежели по доброте… не пойму, что за человек!
При этих словах возница полуобернулся и сказал с некоторой даже гордостью:
– Ну, я ево сразу распознал. Как со штепенковских номерей выехали. «В бога, спрашивает, веришь?» Нет, говорю, не верую. «А в кого, кричит, ты, сатана, веруешь? Может, во всемирный коммунизьм?» И давай он меня материть! «Свобода духу нужна!» – грит он. Да вот меня за бороду-то и дернул. Купец! Как есть, купец старого режиму…
С колокольни ударили в малые: к вечерней.
Жена Евстигнеева перекрестилась и тихонько заплакала.
Новый хозяин евстигнеевского барака долго и угрюмо сидел за столом, вперив взгляд в стену, где висело старенькое зеркальце с отбитым уголком. Когда за окнами спустилась ночная синь, встряхнул лохмами, достал из чемодана четвертную бутыль, шпроты и черствую булку. Налив полный стакан водки, выпил в два приема, не закусывая. Несколько минуток сидел с блаженной улыбкой на губах. Потом налил еще с полстакана и осушил его медленными глотками, морщась, достал из кармана крохотную серебряную ложечку и подковырнул ею шпротинку. Потянулся было к бутылке, но, спохватившись, отдернул руку.
– Что ж, – сказал он в пространство, – побеседуем, Евгений Михайлович! На чем мы остановились там, в вагоне?.. Ах, да: Метаморфозы Овидия. Тэк-с!.. Метаморфоза первая: нигилист и сверхчеловек становится домовладельцем и… обывателем… А тут, вероятно, клопов до черта. Клопы!.. Спутники человека. А? Человек? Это звучит гордо. Это Горький выразился, угу! «Гордо!..» Нет, человек – это звучит подло: «Человек из ресторана», «Человек, пару пива!..».
Философ посмотрел в черный провал окна.
– Люблю тебя, ночь! – продекламировал он даже с некоторым чувством. – Красавица целомудренная, ночь!.. А вот поговорить и не с кем…
Он снял со стены зеркало и поставил на столе, рядом с бутылью.
– Черт его знает, что бы такое устроить… Эврика! Слушай: главное отличие двуногих от прочего скота – в чем? В осмысленности. И попробуй только заспорить. Именно – в осмысленности!..
Утром следующего дня сосед, плотник Безбородов, обеспокоенный настежь открытыми дверями и окнами, заглянул в комнату. Домовладелец лежал голый на голых досках: постель была сложена в огромный узел.
Констанов лежал спиной к дверям. Не оборачиваясь, глухо спросил:
– Какого хрена?..
Безбородов опешил.
– Шел я… Вижу, расперто все. Сказывали – новый хозяин въехал. Думаю: зайду, проведаю, може, что и понадобится, по-суседски.
– Ты кто?
– Плотники мы. Рядом проживаю.
– Плотник? – оживился философ. – Есть дело.
Вскочил, подошел к столу, твердой рукой налил в стакан водки.
– Подойди, двуногий, пей!..
Безбородов, смущенный необычным видом хозяина, стыдливо отказался.
– Пей! – рявкнул тот. – Пей, а то бутылкой тресну!
– Ну, зачем же? Мы завсегда могим, ежели, к примеру, такой случай произошел, чтобы компанию разделить…
И не без удовольствия осушил стакан. Констанов влил в себя водку одним глотком и тотчас налил по второму.
– Лакай, животное!
– Пошто обзываешь? – обиделся Безбородов. – Не буду пить…
И направился к выходу. Но философ загородил ему дорогу.
– Да постой ты!.. Подумаешь, обиделся! Подожди, я штаны надену, и ты объясни мне причины своей обиды. Кто ты есть? Стадное парнокопытное. Ну и черт с тобой! А может, выпьешь еще?
– Нет. Вечером ежели… тогда, конечно…
– Вечером не ходи: вечером я злой…
– Ты и с утра, как погляжу…
– Ладно! Вот что, плотник: сделай-ка мне постройку. Пятистенник. Все твое, мои – деньги.
– Сруб, значит?
– Значит, сруб. Нет, два сруба! Сколько возьмешь? Ну, не думай там долго. Я – беспартийный частник и очень добрый. Утром.
– И пол, значит?
– И пол. И печи. Три печи.
– А пошто три-то?
– Мыло буду варить. Мыловаренную фабрику открою. Идет? Ну, сколько, спрашиваю?
– Ежели… ежели с печкой и все прочее… Ну, в рассуждении леса, кругляк, плахи, жерди – все мое?
Констанов выругался.
– Сказано, мои деньги! Все остальное твое.
Тогда Безбородов выкрикнул в отчаянии:
– Тыща! Задаток двести!
Констанов из уже знакомой нам пачки отсчитал десять десятичервонных.
– Бери, обезьяна!..
Безбородов снова обиделся и не притронулся к деньгам.
– Если обзывать будешь, не выйдет у нас никаких делов. И не надо мне твоих денег!
– Ой ли! – удивился Констанов, шнуруя свои громоздкие ботинки-бутсы. – А если я тебе вместо тысячи – две отвалю? А? Тоже не выйдет?
– Вы, случаем, не из купцов? – ощерился Безбородов. – И за две не стану, коли обзываешь.
– Не будешь? Скажи, пожалуйста!.. Да, Евгений Михайлович, жизнь таровата на неожиданности… А ведь этот человекообразный сможет. Вижу по глазам – сможет. Не возьмет… Ну, ладно, ладно, пролетарий! Я ведь это так, по-научному… Все мы от обезьяны. И я тоже. Извиняешь? – Констанов хитро подмигнул. – А тыщенку-то лишнюю возьмешь все-таки, а?
– За сколь срядились, за столь и сделаем.
– Ишь ты, принципиальный! – ухмыльнулся философ, и голос его словно потеплел. – Нет, чертов ты сын, я не из купцов. Купцов с девятьсот пятого года сам потрошу… Ладно! Забирай деньги и завтра же начинай. План я составлю. Да, еще вот что: жена у тебя, конечно, есть? Пошли-ка ты ее сюда, пусть заберет вот эти шмутки-монатки.
Он пнул ногой узел, в который еще с ночи свалил пожитки Евстигнеевых.
– Бабу не пошлю,- покачал головой Безбородов. – Может, ты и не из купцов. Не пошлю, и милостыни не надо нам. На том извиняйте и будьте здоровы! С полудня начнем возить лес и кирпич.
Безбородов взял деньги, аккуратно пересчитал и, положив в карман, ушел.
На другой же день работа закипела. Вечером, когда уже были привезены и сложены десятки бревен, Безбородов зашел к Констанову. Тот сидел перед коньячной бутылкой.
– Ну… – Безбородов втянул в себя запах финьшампаня, – завтра будем ошкуривать бревна. Вот таперича бы не грех и пропустить стаканчик! Артелью, то ись… Времена-то нынче крутые. На бирже труда множество околачивается. Уж ты, от щедрот своих…
Констанов сделал непристойный жест:
– А этого не хочешь, пролетарий?
Я трудился над анализом Личности.
Уже были допрошены Безбородов, его артельщики – Фомин, Лесников, Шадрин, извозчик Ермолаев. Пришло «отдельное требование» из далекого Ташкента – допросы четы Евстигнеевых. Много материалов поступило и из других городов.
Все отчетливее прорисовывался на страницах дознания облик Констанова, человека сумбурной судьбы.
Бывший студент Казанского университета, бывший поручик царской армии, бывший штабс-капитан у Деникина – вот путь, приведший Констанова в начале нэпа в Читу. Здесь он стал вожаком крупного анархического подполья, унаследовав большие ценности от бывших вожаков – Лаврова и Пережогина.
Следствие установило, что Констанов скрылся из Читы, где жил под фамилией Каверина, разделив кассу между «штабными» и прихватив с собой львиную долю – чемодан с ценностями, которые позже превратил в червонцы.