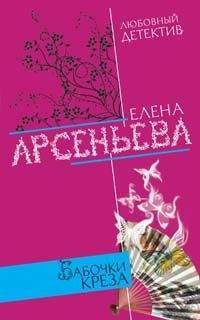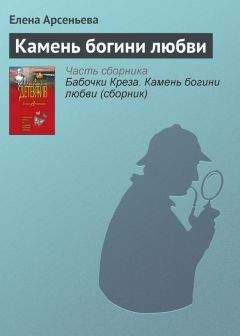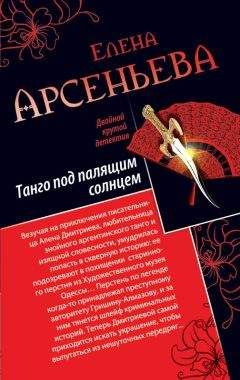Елена Арсеньева - Бабочки Креза. Камень богини любви (сборник)
И, даже не простившись, он убежал, стуча платформами, к своей Медузе Горгоне, на голове которой уж небось вовсю зашевелились нетерпеливые черные змеи.
— Терпеть не могу бабочек! — вдруг сказала с отвращением Наталья Михайловна. — Возьмешь их за крылышки — так мерзко шелестит под пальцами, бр-р! И пыльца осыпается, аж сухо в горле становится. — Женщина передернулась. — А как они лапками судорожно сучат, вы обращали внимание?
Алёна же обратила внимание на слово «сучат», подумав, что, ежели бы саму Наталью Михайловну досужий лихоимец вдруг схватил за крылышки (ну, конечно, при условии, что они у нее откуда-то вдруг взялись бы), она небось тоже засучила бы и лапками, и ручками, и ножками. Однако наша героиня дипломатично выразилась в том смысле, что трогать бабочек необязательно, если так уж неприятно, а лучше смотреть на них издалека, ибо они и впрямь напоминают ожившие цветы, если употребить чье-то расхожее выражение. Автора выражения, впрочем, вспомнить Алёне не удалось, зато она внезапно взяла да и блеснула эрудицией, вспомнив, что Набоков, к примеру, бабочек просто обожал, не зря же написал:
Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам…
О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:
голубоокая ночь в раме двух палевых зорь…
Тут чтица-декламаторша умолкла, ибо у Натальи Михайловны вдруг возникла такая тоска в глазах, что Алёна сочла за благо затолкать набоковский дактиль в те же бездны памяти, откуда он столь внезапно и прихотливо возник. Надо было срочно принимать какие-то меры, дабы сгладить невыгодное впечатление (наша героиня была мнительна), и Алёна примирительно сказала:
— А все-таки красивая картинка. И жителям вон того дома повезло, — она махнула в сторону очень барственного четырехэтажного особнячка недавней постройки — из тех, к которым в Нижнем Новгороде прочно прилипло определение «элитка». — А то смотрели они с осени до весны на голую серую стену… Ладно еще летом — кусты, трава, цветы, сейчас же такая тоска… Зато теперь вот бабочки к ним прилетели!
Проходивший мимо невысокий мужчина несколько угрюмого вида, с бородой и в очках, при виде бабочек вдруг ахнул, остановился, достал из огромной сумки, висевшей через плечо, фотоаппарат (с длинным объективом, не мыльницу какую-то!), сфотографировал бабочек и двинулся дальше гораздо бодрее, чем прежде. Конечно, лица его Алёна уже не видела, но ей почему-то показалось, что на нем наверняка поубавилось угрюмости. А может быть, даже заиграла улыбка.
— И вообще, — продолжала фантазировать Алёна, — если бы я могла, я бы всю эту унылую стену без единого окошка изрисовала цветами, бабочками и облаками, между которыми летали бы ангелы!
— Вы случайно не учителем русского языка и литературы работаете? — снисходительно осведомилась Наталья Михайловна.
— С чего вы так решили? — изумилась Алёна.
— Да вот сказки сочиняете, стихи декламируете, — пояснила Наталья Михайловна и улыбнулась так, что Алёна немедленно вспыхнула:
— Нет, я не учительница, а частный детектив.
В принципе она не столь уж сильно соврала, поскольку в своих романах выступала в роли преступника и следователя в одном лице, изо всех сил стараясь сначала себя запутать, а затем успешно распутывая собственные коварные замыслы. Конечно, Алёна не ожидала, что Наталья Михайловна сделает такое лицо и такие глаза.
— Послушайте… — заговорила она потрясенно, — а ведь я как раз ищу человека, который мог бы расследовать преступление!
— Преступление? — зачем-то переспросила Алёна.
Наверное, затем, чтобы получить исчерпывающий ответ:
— Ну да. Преступление. Убийство.
1918 год
«Ну, кухарка, — подумала Аглая. — Ну и что такого?» И пожала плечами.
Так она думала за последние полчаса раз примерно десять. И пожимала плечами столько же раз.
«Если этот мир не может стать таким, каким ты хочешь его видеть, надо самому стать таким, каким хочет видеть тебя этот мир», — говаривал ее отец. Он уже был тогда болен, чувствовал, что скоро умрет, но старался жить, не скрипя зубами от боли, а получая от жизни удовольствие. Для него удовольствие было не в изобильной еде и питье (с его-то больным желудком!), не в разгуле и роскошестве (с его-то вечной нищетой, к которой приучила жизнь на нелегальном положении), а в работе. В школе для крестьян, которую он устроил в имении. Днем в ней учились дети, вечерами она открывалась для взрослых. Правда, взрослые, само собой, туда и не заглядывали, но отец верил, что все со временем переменится, люди просто должны привыкнуть и тогда придут.
Особенно много таких надежд отец лелеял после того, как в феврале скинули царя. «Вспомнил свою молодость», — снисходительно подумала тогда Аглая, которая знала, что двенадцать лет назад, в девятьсот пятом году, на баррикадах в Москве отец всерьез «делал революцию». Там же он получил пулю в живот, но каким-то чудом остался жив, только — на всю жизнь болен. И смирился со случившимся, постарался сделаться таким, каким хотел видеть его этот мир. Революционеру невозможно сообразовать свою жизнь с шестиразовым питанием, и протертыми супчиками, и паровыми котлетками, и жиденькой нежной рисовой кашкой. Но небогатому помещику, владельцу небольшого имения в пятнадцати верстах от Нижнего, можно вполне. Он распростился с «бурями молодости», как он это называл, и вернулся к жене, ранее покинутой за то, что, полюбив молодого социалиста, не решилась уйти за ним в «новую жизнь».
Именно тогда Аглая и увидела отца впервые. Ей было в ту пору тринадцать, и она не скоро привыкла к изможденному, тощему, желтолицему человеку, который поселился в их с матерью доме и вокруг которого отныне завертелась вся их жизнь. Потом привыкла и даже полюбила его — особенно когда в одночасье сгорела от инфлюэнцы, подхваченной во время краткой поездки в город, мама… Дочь и отец очень сошлись, жили, поддерживая друг друга и дружбой, и начавшей пробуждаться родственной любовью, и истинной страстью к делу рук отца: народной школе. И чем все кончилось?! Отец умер, увидев, как «крестьянские дети» радостно подожгли дом, в котором она размещалась. Для детей школа была всего лишь «пережитком старого мира», который в октябре семнадцатого рухнул окончательно. Господский дом, стоявший почти вплотную к школе, не сгорел только чудом: ветер внезапно переменился и понес пламя в другую сторону, к деревне, так что сгорело несколько овинов, за что поджигатели были крепко выпороты по постановлению сельского схода. Однако стену дома опалило изрядно, отчего внутри поселился неискоренимый запах холодного дыма, ставший для Аглаи самым страшным на свете запахом — знаком разрушения и смерти.
Она не любила вспоминать ужас прошедшего года, проведенного в родительском доме. Жизнь была лишенной надежд, она была обреченной, Аглая каждый день говорила себе, что надо уйти отсюда, из деревни, где она стала чужой всем и где все стали ей чужими. Даже жалости от людей, которые равнодушно смотрели, как горит школа, она не хотела. Конечно, надо было уйти раньше, но как уйти от родных могил? Вот и дождалась того, что однажды ночью выскочила на улицу, можно сказать, в чем была: после приезда очередного комиссара барский дом был тоже сожжен. Деревенские сбежались — кто поглазеть на огонь, кто поживиться. Спасти из мебели, книг и картин, маминых любимых картин, не удалось почти ничего, да и то, что осталось, растащили «спасальщики». Аглая, собрав небольшой узелок из вещей, которые смогла вернуть, устыдив баб, навалившихся было на «барские наряды», ушла по большой дороге, даже не оглянувшись на догоравшие останки прежней жизни. А что еще оставалось делать, если эта жизнь исторгла ее из себя?!
Кое-как добравшись до Нижнего (пригородные поезда не ходили, пришлось все пятнадцать верст отмахать пешком), она поселилась у прежней гимназической подруги (Аглая в свое время заканчивала городскую гимназию), вернее, в доме у ее тетки. Да и пригрелась было там, приходила в себя, проживая те небольшие деньги, которые удавалось выручить за продажу материнских украшений и нескольких золотых червонцев: они оставались в цене, даром что считались осколками проклятого прошлого. Но ни продать толком, торгуясь, ни с умом тратить вырученное она не умела, оттого деньги уходили быстро, а потом кончились вовсе. Подруга тем временем вышла замуж за приезжего агитатора и отправилась с ним в Москву. Ее тетка мигом повысила плату за комнату и прямо сказала Аглае: не можешь платить — выкатывайся. Нужно было искать работу, но где и какую?! Что она умела делать? Да ничего. Разве что учить детей тому, что знала сама. Но кому это нужно в сошедшей с ума стране?!