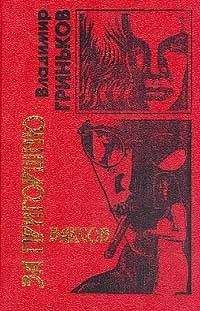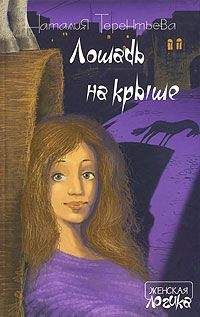Йенс Шпаршу - Маска Лафатера
Невольно я вспомнил одни похороны, на которых присутствовал пару лет назад в Берлине. Покойный — и все об этом прекрасно знали — долгие годы являлся осведомителем Госбезопасности и даже имел настоящую подпольную кличку «Иволга 2».
И вот скорбящее общество, во-первых, скорбело, а во-вторых, сгорало от любопытства, как выкрутится из этой ситуации с секретной службой оратор, произносивший надгробную речь, — ограничится ли он такими словами, как «В этой жизни был свет и была тень» или же, дабы упростить себе задачу, вообще об Иволге не заикнется, что же теперь Иволга? «Птички замолкли в саду…»
Оратор колебался очень долго. Окольными путями, незаметно и осторожно он подвел свою надгробную речь к столь трепетно ожидаемому всеми моменту — и чрезвычайно мягким, тихим голосом произнес:
— …наш Вильфрид всегда с особым вниманием прислушивался к мнению окружающих!
И все поняли, о чем речь. А в заднем ряду одна женщина даже расплакалась. Как раз в этом месте.
Глава восемнадцатая
Я опоздал на пару минут. Дверь уже была закрыта. Тихонько открыв ее, я проскользнул внутрь и стал торопливо искать себе место в одном из задних рядов, все еще пытаясь отдышаться.
Праздничная зала была переполнена. Чтобы пропустить меня к свободному месту, некоторым присутствующим пришлось встать. Тут уж ничего не попишешь.
Впереди, в первом ряду я узнал Кранебиттера. Сидел он очень прямо, держал осанку.
Он дружелюбно, но удивленно озирался, все поглядывал собравшуюся за его спиной аудиторию. Что-то тихо сказал своей жене, сидевшей с ним рядом.
Завидев меня, он радостно кивнул через плечо и хотел было подняться. Но в этот момент все разговоры в зале стихли. Заиграл студенческий квинтет. Современная камерная музыка. Фальшиво и потерянно звучали под сводами зала разрозненные ноты. Сплошные индивидуалисты. Довольно печальная мелодия.
Я откинулся на стуле и закрыл глаза.
Сначала поезд запоздал, отправился не по расписанию. Из-за этого я не успел на другой поезд. Вместо завтрака пришлось довольствоваться двумя банками пива, купленными в привокзальном киоске. Потом, в следующем поезде, я плодотворно поработал над финальной сценой (Кладбище, за оградой), она у меня пошла до странности легко, как по нотам, навевая неожиданные мысли о жизни и смерти.
И приехал бы я все-таки вовремя, не попадись мне по дороге от Центрального вокзала к высотному зданию университета плохо обозначенный участок дорожных работ. Мне пришлось развернуться, пробежать значительное расстояние пешком — на последних метрах я уже выбивался из сил, едва дышал и в ужасе поглядывал на часы.
Между тем музыка, увенчанная несколькими запоздалыми вздохами гобоя, смолкла.
Грундиг поприветствовал собравшихся от имени декана и произнес краткое вступительное слово. Потом заговорил профессор Менкеберг, новый обладатель преподавательского кресла. Родом он явно был из Северной Германии. Его тема: «Просвещение и отречение — вклад профессора Кранебиттера в исследование ордена Просветителей». Все это было весьма любопытно. У меня, однако, складывалось впечатление, что Кранебиттера он знал еще хуже, чем я.
Излагая биографию героя дня, Менкеберг не забывал особо подчеркивать, что теперешний уход Кранебиттера на пенсию связан исключительно с его преклонным возрастом. Создавалось впечатление, будто сей прискорбный факт является личной заслугой Кранебиттера и стоит в одном ряду с прочими его научными достижениями.
Кранебиттер отвечал застывшей, обращенной в пространство улыбкой.
«Внук ткача — попытка». Таково было название следующего монолога. Состоял он из ряда несколько анекдотических по духу эпизодов из университетской жизни Кранебиттера — зачитывала одна из немолодых преподавательниц, с которой я тем не менее знаком не был. Родом она была из Саксонии и довольно сильно волновалась. Я вознамерился сохранять спокойствие. Пальцы мои крепко впивались в серую папку.
И снова музыка. А затем наступила моя очередь.
— Сейчас! — подобно суфлеру, подсказал мне Грундиг, внезапно появившись в боковом проходе.
Пошатываясь, я двинулся вперед. Выбрался на небольшую трибуну, чуть наклонился, повернувшись в сторону Кранебиттера. За пультом я был совсем один. Его размеры заставили меня съежиться еще больше. Но оно и лучше — так я мог хоть немного за ним спрятаться.
— Дорогой профессор Кранебиттер, дамы и господа! Сегодня мы с вами собрались здесь…
Все взоры были устремлены на меня; я просто не посмел сейчас раскрыть папку.
— Человек… — тихо произнес я, осекся, затем повторил уже громче: — Человек покидает университет, место, за несколько десятилетий ставшее его домом. А мы? Что мы, собственно, о нем знаем? Ничего! Действительно ничего. Я много прочел о вас за последние дни, уважаемый профессор Кранебиттер. Но тем не менее, кто я такой, чтобы знать хоть что-то? Кто мы такие, чтобы хоть что-то знать об этом человеке, Георге Кранебиттере? Знать его мечты, его радости и страхи, его… Хорошо, научные труды. Об этом здесь уже говорилось достаточно. Но что же еще?
Вы, профессор Кранебиттер, прощаетесь сегодня с этим университетом. И забираете с собой, так думается мне, свою тайну — вселенную мыслей и чувств. Может статься, был однажды рассвет, который вы не в силах забыть — много лет назад, на речном берегу, в пору вашей юности, или то была туманная аллея осенью, или просто случайно услышанное пение птицы. Что я знаю? Возможно, вы также с удовольствием едите бутерброды с ливерной колбасой! Вполне возможно! Не знаю. Я не знаю ничего. Да и откуда бы мне все это знать?
Мои плечи беспомощно передернулись. Пиво сделало свое дело, и теперь мысли шли окольными путями, минуя мою опустевшую голову.
Тем не менее, размашисто описав в воздухе круг правой рукой, я продолжил свою речь:
— Мы пытаемся постичь этот мир, однако зачастую не понимаем простейших, самых доступных вещей, потому что… не в силах этого сделать. Мы пытаемся подобрать нужные слова для того, чего словами не выразить. Или скажу иначе: в каждом из нас тикают часы. И каждые из них показывают свое время.
С этими словами я украдкой покосился на часы — мне ни в коем случае не хотелось говорить слишком долго.
— Человек…
Какое великое слово, с тоской подумал я и снова внушительным жестом описал дугу. Впереди я видел сплошные головы, но не в силах был различить ни одного лица.
— Итак, человек — у него есть планы, о которых мы не подозреваем. У него есть надежды, которые не сбываются. Когда я стою здесь и размышляю обо всех надеждах, что мы хороним день за днем, хороним внутри себя, я задаюсь вопросом: что же мы такое — ходячие кладбища?!
В зале нарастает беспокойство; мне становится жарко. Расслабив галстук, я отпиваю большой глоток из стакана. Ловлю себя на том, что все больше уклоняюсь от надлежащего праздничного тона, и все же извлекаю из папки спасительный листок бумаги.
— Уважаемые дамы и господа…
Я понизил голос:
— Как сказал еще Гёте: «…чтобы только играть, слишком стар, чтобы жить без страстей, слишком молод». Не содержится ли в этих словах все, что вообще может быть высказано в этой связи?
Вопрос тяжко повис над рядами.
Кое-кто в зале закивал, что я вполне мог бы расценить как сигнал отбоя. Но я еще не закончил. Мне был необходим финал.
К сожалению, добавить к этому глубокомысленному изречению я так ничего и не сумел. Я таращился на бумагу, в конце концов перевернул страницу, но на обороте было написано только:
«Заметки. Похороны. Энслин».
И все. Белый лист, словно флаг капитуляции.
Он медленно выскользнул из моих рук.
На глаза наворачивались слезы, но мне удалось удержать их. Я беспомощно огляделся. Тут взгляд мой упал на Кранебиттера:
— Дамы и господа! Лицо! О чем оно нам говорит?
Лица в зале превратились в знаки вопросов. Мне стало дурно.
— Чертовски трудно ответить на этот вопрос, — тихо произнес я. — Внешняя оболочка и внутренняя сущность хоть и связаны между собой каким-то образом, тем не менее живут они — к такому выводу мне было суждено прийти — как два существа, состоящие в откровенной интимной связи, но… как вам объяснить… Следовательно: мы видим лицо. Мы пытаемся изучить его. И все же, как бы долго мы на него ни смотрели, оно остается для нас загадкой. Всегда загадкой. Как и все лица. Георг Кранебиттер…
И я застрял. Теперь я действительно понятия не имел, что говорить дальше.
— Все кончено… Конец всему.
Я издал тихий, полный отчаяния стон. Пошатнулся. Мне пришлось обеими руками схватиться за пульт. Глаза я опустил. И замолчал.
Молчал долго. Очень долго.
Должно быть, это походило на минуту молчания, поскольку стоило мне осторожно поднять взгляд, уловив доносившийся из зала шумок, и я увидел, что присутствующие молча привстали со своих мест.