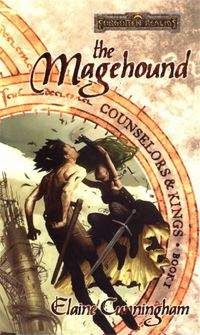Владимир Зарев - Гончая. Гончая против Гончей
Теперь, когда мне осталось недолго жить, я был обречен кружить с высунутым языком среди собственных воспоминаний и скулить от одиночества. И еще — пройтись по тропам, знакомым с тех пор, когда я с любовью, усердием и гневом в сердце прочищал чащобу вашей жизни…
Перевод О. Басовой
ГОНЧАЯ ПРОТИВ ГОНЧЕЙ
Все в этой книге вымысел,
но все — чистая правда!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
День сегодня просто потрясающий! Конец января, а термометр на улице показывает пятнадцать градусов тепла, небо прозрачно-голубое, тротуары на бульваре Толбухина по-весеннему испещрены пятнами света. Воздух пронизан солнцем, на лицах прохожих блуждают мечтательно-томные улыбки. От этого сияния природы даже как-то не но себе. Как человек пожилой и следователь на пенсии, я знаю, что много добра не к добру! Позавчера в трамвае пятнадцатилетний панк с серьгой в ухе уступил место старушке, и этот вежливый жест вызвал во мне чувство напряженности. Настораживает меня и счастливая улыбка моей дочери. Два года назад Вера развелась. Пережив унижения, связанные с бракоразводным процессом, и драму нежеланной свободы, она замкнулась в себе, утратила интерес к маленьким радостям жизни, от избытка свободного времени написала диссертацию, и когда мы с женой окончательно потеряли из-за нее сон и покой, она вдруг начала улыбаться. Вот уже месяц, как Вера преисполнена нервной восторженности, и это тревожит меня больше, чем постоянный упрек в том, что случилось. Совсем как весна, пришедшая вдруг в январе. По утрам меня будит ее голос, доносящийся из ванной. Слегка фальшивя, дочь напевает задорную песенку «Честно говоря, все в порядке у меня», которая по законам моей деформированной психики вызывает у меня пессимизм. Кто-то верно заметил, что пессимист — это умудренный опытом оптимист.
На моей памяти давно уже не было такой бесснежной зимы. Осень выдалась мягкой, тихой, как догорающий огонь, затем промозглый смог укутал город грязной пеленой. Декабрь и январь были сухими, даже темя торы Витоши не невинно белеет, а сереет с той гордой надменностью, с какой природа терпит наше человеческое присутствие. Я страстный рыболов, люблю часы мудрого одиночества, наверное, они помогают мне мириться с собственной незначительностью, по сейчас уровень воды в водохранилище Искыр снизился наполовину, искусственное море начало высыхать, и я с тревогой думаю о лете: что будет пить София в августе? В воздухе витает какое-то неуловимое беспокойство.
— Засуха… — мрачно произносит Генерал.
— Да, и очень сильная, — соглашается Генеральный директор. — Беда наша в том, что когда урожай большой, половина его сгнивает в поле, а когда год неурожайный, то и убирать нечего…
Губы Генерала болезненно кривятся, розовый шрам на подбородке наливается кровью, он делает вид, что не слышит. Мы — люди пожилые, пенсионеры, единственное наше удовольствие — быть недовольными. Это почти физическое наслаждение, нечто, подобное любовному трепету подростка, оно поддерживает наш интерес к миру и придает определенный смысл ускользающему от нас понятию «будущее». Наверное, вся прелесть жизни кроется в умении сомневаться, существование есть несогласие. Вот уже год, как Генерал регулярно читает «Московские новости», Генеральный директор — «Литературную газету», а я просматриваю «Огонек». Величие правды о тех мрачных годах заставляет нас чувствовать себя обманутыми и испытывать к себе мазохистское презрение. Вчера Генеральный директор развил оптимистическую теорию, что в маленькой стране насилие не может достичь максимума своей истребительной силы.
— Нас тоже не миновала чаша сия, но в отличие от русской, переполненной сверх всякой меры, в годы культа личности мы испили лишь нашу родимую стопку, — заключил он мудро.
Мы с болью в сердце рассуждаем о трудностях перестройки, предсказываем дальнейшие шаги государственных деятелей, и это дает нам ощущение своей необходимости. Все трое мы законченные догматики, мы и боимся перестройки, и стремимся к ней, как к откровению, хотя уже давно утратили сияние личной власти. Наша молчаливая «гласность» с самого начала увечна: в глубине души мы сознаем, что то, что сейчас отрицаем, было и нашим делом или, еще более жестоко, — нашим домом. Чтобы быть недовольными, просто для того, чтоб ощущать себя живыми и нужными, нам надо что-то в себе убить, а это «что-то» кровоточит, болит, не хочет умирать.
— Верно, что за сорок лет мы построили несколько Болгарий, — говорит задумчиво Генеральный директор, — но сколько Японий создали за это же время японцы?
Его вопрос, повисает в воздухе. В клубе пенсионеров — борцов против фашизма и капитализма царит полумрак. Тепло и тихо, столики с занимательными играми еще пустуют. Перед нами дымятся чашки кофе, у Рени кофе обычно жидкий и безвкусный, но зато дешевый. Рени — рыжеволосая красавица неопределенного возраста с тонкой талией, как горлышко амфоры, и с высокой грудью, которая, к сожалению, вызывает у нас одни лишь воспоминания. Ее материнское терпение по отношению к нам превращает наш клуб в некое подобие Дома престарелых. Позади стойки бара с машиной для варки кофе и чая, бутылок с тремя видами прохладительных напитков и хрустальных пепельниц у нее скрывается чудовищная по своей разумности аптека — коробочки с аспирином «Байер», анальгин и седальгин, флакончики с валидолом и антистенокардином и еще десятки лекарств с таинственными названиями в разноцветных упаковках… Думаю, что в случае необходимости Рени может сделать и любой укол. Эта теплая забота умиляет нас и раздражает, вселяет в наши души одновременно и страх и твердую уверенность, что если нам суждено умереть, то по крайней мере здесь все будет сделано для нашего спасения.
Безо всякого стыда она называет наш клуб «Долиной умирающих львов». Львы — это мы, а долина — небольшое помещение с десятком столиков, покрытых бежевыми скатертями, отделенное от внешнего мира плюшевыми занавесками, пропитанными еле уловимым запахом стареющих мужчин — запахом степенности, спокойствия, валерианки и табачного дыма. Мягко светятся хрустальные абажуры, напоминающие в аквариумном полумраке зала каких-то морских животных, из-за отдернутых занавесок солнце врывается лучами прожектора. Бульвар за окнами кажется сценой театра абсурда, где разыгрывается некая нескончаемая пьеса без главного героя, без кульминации и развязки — картины динамичных и волнующих будней, в которых мы всего лишь зрители.
— Товарищ генерал, — с раздражающей заботливостью произносит Рени, — из окна дует. Бы можете простудиться, и Лили будет на меня сердиться…
Лили — жена Генерала. Взбешенный этой вызывающей фамильярностью, он буквально расплющивает сигарету в пепельнице, но как всякий настоящий солдат беспомощен перед женщиной.
— Давай разыграем третью партию… — обращается он ледяным голосом к Генеральному директору. — В четверг мы сыграли вторую.
В четверг они в сущности «сыграли» вторую партию шахматного поединка на первенство мира между Карповым и Каспаровым — события, уже ушедшего в прошлое, но продолжавшего волновать членов клуба. И Генерал, и Генеральный директор — шахматисты-дилетанты, их привлекает в игре эмоциональный накал, а теория не интересует: полное невежество — особая форма знания. Пластмассовые фигуры расставлены на блеклой доске, пожелтевшая газета раскрыта на шестой странице, с приглушенным вздохом сделан первый ход.
Мне хорошо и спокойно в нашем клубе, я уже проникся уверенностью, что и этот день тихо уйдет в бесконечность, что и в нем заложен смысл моего сопротивления безжалостному ходу времени. Наше ежедневное общение по утрам, будучи вынужденным, является тем не менее совершенным. Мы встречаемся в теплой «Долине» — долине медленного, но неотвратимого старения, делимся друг с другом своим недовольством и своей тайной боязнью перемен, рассуждаем о преходящем характере бытия, перебираем, как драгоценности, воспоминания и надежды. По утрам мы свободны, настолько бессмысленно и безнадежно свободны, что не знаем, в какую темницу загнать свои прояснившиеся мысли. Генерал широкоплеч и сед, его партизанское имя — Бойко. Генеральный директор округл, лыс и чрезвычайно подвижен, мне он чем-то напоминает фокусника, все называют его ласково Тони. Когда я, копаясь в житейской грязи, работал в следственных органах, мне дали гордое прозвище — «Гончая». «Ты, Евтимов, — мой самый лучший пес!» — сказал мне однажды с язвительной иронией и любовью мой бывший шеф. Почувствовав страх от собственной породы, я прочел тогда целую книгу об этих умных, благородных и со страстью отдающихся инстинкту преследовать животных. Сейчас этот навык не мешает мне жить, прозвище не обижает; угнетает лишь постоянное ощущение, что я — забытый пес, который вглядывается в себя слезящимися, близорукими глазами и видят свою ненужность.