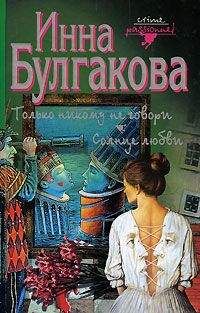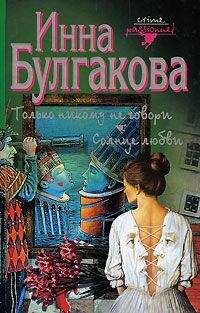Инна Булгакова - Сердце статуи
— Зачем вы так раскрывались? В состоянии аффекта?
— Да нет, ко мне уже вернулось хладнокровие.
— То есть вы спровоцировали Золотцева на покушение?
— Это истинная правда, Федор Платонович: подчеркиваю, чтоб его не засудили. Я внезапно понял, что не выдержу.
— Чего не выдержите?
— Убийство не по плечу. Он начал догадываться и прошептал: «Тебя надо истребить!» (Словечко-то во мне застряло, и в беспамятстве потом твердил…) Вот тут я его и спровоцировал — сознательно: «Попробуй! Слабо? Да разве ты мужчина, девственник ты наш!» Он на меня пошел, но все чувствовалось: до конца не дойдет. Равный себе враг — я сам, чудовище ренессанса, профессор прав. И не кого-то я там берег, вспомнить не мог — себя, любимого! В общем, я его пырнул заточенным долотом, кажется, в левую руку, рукав порвал, проступила кровь. «Будет тебе гроб с музыкой, обещаю!» — завопил он и поднял с пола кувалду. Ну, я провалился в темь. В ту самую Темь, где Успенская церковь.
— Вы больше ничего не помните?
— Нет.
— Между тем на мгновенье вы как будто очнулись, позже. Золотцев, нанеся удар, не сразу пришел в себя, стоял в оцепенении. Потом нагнулся над телом убедиться… фонтаном брызнула кровь из артерии на вашу, уже пролитую. Он сходил умылся, забинтовал руку, переоделся в ваш костюм, прихватил свой в целлофановом пакете и помчался в Темь. Не заперев входную дверь. Вскоре появился Колпаков. Не буду вдаваться в детальный анализ его переживаний: только что пригрозил по телефону — и уже готовый труп. По его словам, он совсем ополоумел от ужаса и увидел под станком маску Ангелины. Вы вдруг подняли голову и поглядели на него.
— Он сам признался?
— Сам. Добровольно. На последней очной ставке вы его достали. «Нет, — твердит, — она меня достала».
— Она — гоголевская панночка. Всех троих достала. Ну, что ж теперь скрывать… Помню как в тумане: он поднимает кувалду и идет ко мне. После этого удара я очнулся только через два месяца.
— Веселенькую сценку разыграли три товарища.
— Античная мистерия свиней. Они быстро раскололись, а могли бы сговориться и потверже, и потолковее.
— Ваши друзья ни разу не встречались наедине после преступления, видеть друг друга не могли.
— А ко мне их, как магнитом, тянуло: вспомню или нет? Доктор считал меня убийцей (потому и не боялся, что к больному вернется память, наоборот — способствовал). Считал до тех пор, пока не услышал от меня о поразительных показаниях Андрея: Вера живая идет по саду в то время, как убийца лежит без сознания… Вы за мной следили?
— Нет.
— Значит, у меня потихоньку развивалась мания преследования. Не подозревали?
— По здравому смыслу, логически — нет, защитнички постарались. Инстинктивно, по внутреннему чутью — да! Чем больше я с вами общался, тем очевиднее чувствовал: вы — эпицентр, в вас корень зла.
— Вы чувствовали, как я — подсознательно.
— Да, до той поры, как узнал, что кровь у Золотцева той самой четвертой группы. И понаблюдал отношение брата к сестре: бережное до болезненности, он ее все «деточкой» считает. Вдруг определилось: не могла Вертоградская погибнуть 10-го вечером и исчезнуть, никак! А не сам ли пострадавший виновен… но каким образом?
— Как же вы меня поймали на кладбище?
— Не моя заслуга. По большому счету — ваша. Вы провели следствие, собрали улики и вычленили убийцу. То есть себя. Вам бы сидеть тихо, Максим Николаевич.
— Не вышло, кто-то не допустил.
— Ведьма, что ль?
— Не смейтесь, не знаю. И жить не могу.
— Еще как сможете, дай срок!
— Какой же срок?
— Это не нашего с вами ума дело. Так вот, считаю, я обязан вам объяснением. После так называемой очной ставки, когда вы приперли к стенке двух приятелей, — Колпаков примчался ко мне. Как только я услышал про скульптуру в саду… Раньше, когда он смотрел на фотографию вас троих, его внимание акцентировалось на адидасовских костюмах. Ну, наконец рассмотрел и вспомнил — у вас в кладовке 1 мая: готовая вещь. Какой «Надеждой» занимался скульптор неделю перед покушением? Ювелир в страхе, что все свалят на него, раскрылся до донышка. Рассказал про лицо Авадоны.
— Да почему до этого скрывал? Тоже мне «статуэтка»… больше двух метров росту!
— Слишком явный мотив для убийства скульптора, ведь он, действительно, ударил кувалдой… Ну, и всякие суеверные страхи — жену тоже угробил, хотя и невольно. В общем, на его «Жигулях» мы подъехали к вам: дом не заперт, музыка на полную громкость, сорока эта самая воровка летает, брат с сестрой под дубом…
— Играют в теннис?
— Какой там теннис! Я их взял в оборот — Голицын сдался. 10 июня он видел идущую к вам в темноте сестру, но не отдал себе отчета, поскольку не догадывался о вашей связи с Надей. Ну и ляпнул мне: женщину, мол, видел. Тут сестрица входит в темном платье, я говорю, нужно взять на экспертизу, кровь. Наконец он соображает, какая женщина была в саду, и дает противоположное описание. Надя падает в обморок, а на другой день тренируется с кувалдой под дубом. Такая картинка застряла у него в голове: и мысль о том, что у Нади нервный рецидив, связанный с давним кошмаром, укрепилась.
— Они объяснились после вашей очной ставки?
— Ну да. Он спросил у нее, не она ли спрятала вещи в дупло, и прямо сказал, кого видел в ту ночь. Ну, у девушки открылись на вас глаза.
— Да, она очень изменилась после этого.
— Насчет вас — не очень, тверда как сталь. Словом, я попросил у Голицыных кувалду, и мы с ювелиром отправились на Успенское кладбище проверить, по какой же причине у Ангела смерти изменилось лицо.
— Статуя преследовала меня во сне, пытаясь задушить в бетонных объятиях, и проступали зеленые пятна… В первый же день после больницы Сема сказал про Авадону, а на кладбище я так и не собрался — инстинкт самосохранения у поросенка.
— Положим, по инстинкту вы жить не смогли и сами себя разоблачили — в первую очередь, как творец: вылепили лицо, мертвый оригинал которого имели перед глазами.
— Я возненавидел этот дар… зачем-то данный мне с юности, с двадцати лет, со статуи «Любовь». Моя творческая жизнь началась с разрушения — и кончилась разрушением… на кладбище, когда с первого удара обнажилась разложившаяся плоть. Цирцея отомстила после смерти, а из меня сверхчеловека не получилось.
— И слава Богу. Дождутся вас и Надежда, и творчество.
— Ну это вряд ли. «Я звал тебя и рад, что вижу».
— Кого?
— Смерть. «Каменный гость» у Пушкина.
36
Голос умолк, но она еще будто слушала. В дверь заглянул Андрей.
— Надюш, что это у нас Котов на крыльце сидит?
— Он принес кассету с допросом, я попросила переписать.
— Сыграем в теннис?
— Да нет, не хочется.
Она достала из магнитофона казенную кассету, отдала, Котов положил в карман пиджака. Надя быстро пошла к калитке.
— Ты куда? — воззвал Андрей: они со следователем стояли на крыльце, глядя ей вслед.
— Пойду пройдусь.
— Окинула отрешенным взором соседний сад, богатый дом, замшелую крышу сарая. «Золотые шары» пожухли к осени, но много еще золота… золота, зелени и багрянца по пути в лесах и лугах. Далекие Успенские купола приблизились сквозь древесные светотени. Могилы, паперть, юродивая старушка сидит, скорчившись.
— Гога и Магога идет?
В окошко кирпичного домика выглянул священник.
— Здравствуйте, отец Владимир. Можно к вам?
— Здравствуйте. Милости прошу.
Она вошла в низкую горницу с длинным столом из свежего теса и лавками. С горящей лампадой в красном углу перед Спасом.
— Я — жена Любезнова Максима Николаевича.
— Ах вот что. Присядьте. Как вас звать?
— Надежда. Вы знаете, что он арестован?
— Арестован?
— За убийство девушки. Веры Вертоградской.
— Он признался?
— Да, вспомнил. Он говорил, что был у вас на исповеди.
— Был.
— Но вы его не причастили.
— Осознать свои грехи еще не значит покаяться в них.
— Наверное, он покаялся, раз сам себя разоблачил. Я хотела бы заказать церковную службу.
— О здравии?
— За упокой.
— Неужели?.. Надеюсь, он не наложил на себя руки?
— Нет, умер после допроса. Сердце разорвалось.