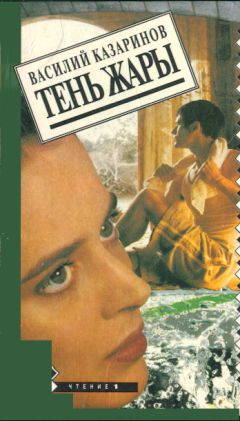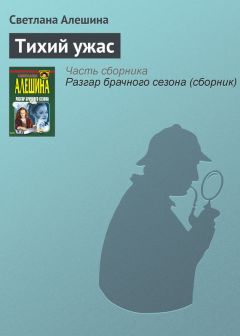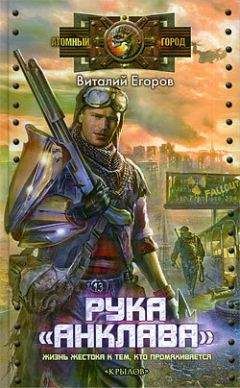Василий Казаринов - Тень жары
– Это он.
Я резко обернулся; все так — и полунаклон и прищур, и тонкая струйка черного кипятка у чайного носика.
– Кто — он?
– Он. Москвич.
Мы пили чай мелкими глотками, и я про себя дорисовывал портрет персонажа. Он из той реликтовой породы людей, говорил Марек, какие есть странствующие романтики; каким-то ветром его занесло сюда, к нам… Нет, он не профессиональный матрос. Кажется, он учился в Москве, в училище, ну, в том, где учат рисовать, ведь у вас в Москве есть такое училище? Нет, он его не закончил, ушел с третьего курса, то ли сам ушел, то ли его выгнали — что-то он рассказывал Мареку, но Марек не помнит. Путешествовал… Когда он возник здесь, в городе, у него был с собой маленький рюкзак и плоский деревянный ящик на ремне через плечо. Мольберт? Да, кажется, мольберт. Но никто не видел, чтобы он писал на улице, как все художники. Зато его часто видели в городском музее. Он ходил по залам и вглядывался в холсты. Бывал ли он у Марека? Да, бывал, этот холст — где поле — его. Подарок.
Я вспомнил, откуда знаю это поле. Это "Пейзаж в Овере" — выставлено в Пушкинском.
И что-то в этом холсте было не так, не на месте было. Что именно — я не понимал. Возможно, в промытом дождем пейзаже чувствовалось чуть больше вольного воздуха, терпкого, степного — как раз того, какой носят горячие ветры гуляй-поля, — автор оригинала был европейцем и дыхания этих горячих ветров знать никак не мог.
Я, наконец, добрался до смысловой точки нашего текста — это не месть, не каверза, не злой умысел. Это — мазок, след, оставленный кистью на холсте. Он не псих, этот парень, он всего-навсего — КОПИИСТ.
И, кажется, я догадываюсь, в какую именно композицию складываются мои "двенадцать палочек".
7
Поездка к морю заняла два дня. Я вернулся в Москву с твердым намерением отдохнуть.
Неделя вяло подползла к выходным; я плыл в сером потоке глупого, бездеятельного времени — вернувшись из города, пахнущего железом и морем, я бездельничал, перевернувшись на спину, разбросав руки; когда-то под нашим старым добрым небом я любил заплывать на самую середину Москва-реки и лежать в ней крохотным загорелым крестиком; лежать и не шевелиться, чтобы ленивое течение несло на закорках — куда? Куда-нибудь.
На второй день я заставил себя позвонить в контору и попросил передать Катерпиллеру: сюжет завершен, продолжения иметь не будет, рукопись отпечатана, выправлена, вычитана и уложена на полку — сохнуть, желтеть, сосать пыль. Ленка холодно поинтересовалась: так и передать?
Точно так, пусть расценивает мой звонок как телефонограмму.
Приличия ради, я вспомнил Бориса Минеевича и Викторию — как у них делишки, поправляются?
В общем и целом — в отношении физических кондиций — сносно, но чисто психологически… Они никак не приходят в норму, и неизвестно, придут ли вообще.
Напоследок она забросила удочку: ей лично я ничего не желаю передать? Какую-нибудь телефонограмму — не желаю?
Я сказал, что составление телефонограммы — это слишком трепетное занятие — больше одной в день мне не родить; телефонограмма — это как стих, ее нельзя высиживать, как наседка высиживает яйца, она должна созреть.
Ленка бросила трубку.
Остаток дня я провалялся на диване. Кажется, я начал впадать в состояние анабиоза. Единственный человек, способный меня в таком состоянии поднять с места, — это Бэлла. И она позвонила.
– Подъезжай… Сейчас можешь?
С трудом, но все-таки, кажется, я мог.
– У меня тут это… — продолжала Бэлла. — Машину… — она задумалась; я представил себе, как она сидит у телефона на низком пуфике и листает в памяти свой инфернальный словарь.
– Стырили?
– Как? Стырили? — странно, что этого термина не оказалось в ее необъятном словаре.
– Можно по-другому, — сказал я. — Сперли. Свистнули. Помыли. Слямзили. Умыкнули.
Некоторое время она размышляла.
– Не-е-е-т, — раздумчиво отозвалась она. — Это называется не так. По-русски это называется…
Я и сам догадывался, как это называется.
– Приезжай. Посидим тихо. Без шума и звона. Втроем.
– Втроем?
Ах, да — Слава анестезиолог. Тихо посидим — при свечах, вкусно поедим, потом меня уложат на старушкину раскладную кровать — перспектива не самая веселая, но выбора не было.
У метро я купил цветов — белых вперемешку с розовыми.
Бэлла встретила меня при параде, я едва ее узнал: темно-вишневое вечернее платье, бриллиантовые капли в ушах, новая короткая стрижка — это была Belle, но никак не Бэлка, которую я знал сто лет.
– Я угодил на свадьбишный ужин? — сказал я, рассматривая хозяйку. — Ты очаровательно выглядишь. Наш вольный воздух тебе на пользу.
– Слишком вольный, — уточнила Бэлла.
Мы прошли в комнату. Наши предстоящие посиделки были обставлены примерно так, как я и предполагал: прекрасная сервировка, множество разных вкусностей, выставленных чисто по-русски: если уж салат, то ведрами, сыры — головами, колбасы — батонами, напитки — галлонами. Я прикинул, что провианта нам хватит дня на три. А выпивки — и подавно, ведь Бэлла, насколько я понимаю, решила с этим делом завязать.
– Слушай, у меня всегда было подозрение, что ты только прикидываешься француженкой.
– Да?
– Ни один француз не позволил бы себе соорудить такой стол. Все французы, сколько я их знаю, страшные жмоты. Просто патологические.
– Есть немного, — согласилась Бэлла, проверяя перед зеркалом аккуратность зачеса. — Который час?
– Семь…
Она нервничала. Наверное, Слава уже должен был стоять у дверей.
Я устроился в кресле, подтащил к себе сервировочный столик с напитками.
– Захватишь Славу с собой? Или сама тут осядешь?
– Как-то не думала… — Бэлла повела плечом. — Как ляжет… — она наморщила лоб, и я пришел ей на помощь:
– Фишка?.. А чего? Устроишься тут в какое-нибудь совместное предприятие. А меня возьмешь к себе личным переводчиком.
– Это с какой стати?! — вскинулась Бэлла. — Я идеально владею языком — и нашим, и вашим. И еще английским!
– В том-то и дело, что идеально… Как ты переведешь слово "Deception"*[31]?
– Наебка! — моментально перевела Бэлла.
– То-то и оно.
Она подошла к окну, отстранила тяжелую штору, глядела во двор: все высматривала своего Славу.
Я спросил, что с машиной.
Да, ничего особенного, обычный советский цирк. Подъехала на заправку, выстояла минут сорок, наконец, дождалась заветного места у шланга. Пошла в будку платить, заплатила, вернулась, но машины на месте не нашла.
– Ну, — посочувствовал я, — это вполне в рамках нашего теперешнего жанра. В милицию ходила?
Про милицию я спросил для проформы — и дураку понятно, что если на дворе у нас "Большой налет", то ходить в милицию не имеет никакого смысла.
– Да, была! Там отделение рядом, через два дома.
Была; по обыкновению устроила скандал и размахивала французским паспортом; преклонных лет капитан покорно внимал ее словоизвержениям, и в ответ грустно заметил: "Скажите, девушка, еще спасибо, что легко отделались".
– Представляешь, твою мать! И говорит дальше: у нас ведь как? Останавливают вас на дороге — и кирпичом по голове… — она прошлась по комнате: туда-сюда, туда-сюда. — Где ж Слава? У него была операция. Плановая. Днем. Он сказал, что будет часов в шесть.
– Номер больницы знаешь, конечно? И телефонный справочник давай…
В справочной, как обычно, занято. Я дозвонился в приемное отделение, мне ответил хрупкий высокий голосок — такие бывают у пятнадцатилетних девочек-практиканток из медучилища.
– Вячеслав Сергеевич? Он занят. Непредвиденные обстоятельства. Недавно привезли пострадавшего — и сразу на стол. В ужасном состоянии, весь избит, сильно порезан… Вячеслав Сергеевич сейчас в операционной.
Девушка примолкла. Потом перешла на испуганный шепот:
– Знаете, мне только что звонили… Да, по поводу этого пострадавшего.
Звонили и звонили — в приемное часто звонят и справляются о состоянии больного и шансах на выздоровление…
– Да нет, вы не поняли…
Она была явно перепугана, эта сестричка, — я насторожился.
– Что такое? Только спокойно, без нервов.
Звонил мужчина… Нет, не назвался и ни о чем не спрашивал. Узнав, что больной у нас, он приказал, чтобы врачи его не трогали: он должен умереть — и пусть он умрет.
– Что ты ответила?! — неосторожно выкрикнул я и затылком почувствовал, как Бэлла напряглась.
– Как что? Что положено… Что пострадавший сейчас на столе.
– Черт бы тебя побрал, — тихо сказал я, но Бэлла, конечно, все слышала: она положила мне руку на плечо, и я через свитер почувствовал, какая у нее напряженная и холодная ладонь.
Я поднялся с банкетки, обнял ее и мягко повлек к столу. Усадил в кресло, стал успокаивать: ничего особенного, внеплановая операция, бывает… Они скоро закончат. Какую-то женщину с час назад доставили с подозрением на перитонит. Но подозрение не подтвердилось — просто аппендицит. Слава скоро закончит, наверное, уже закончил, снял перчатки, умывает руки.