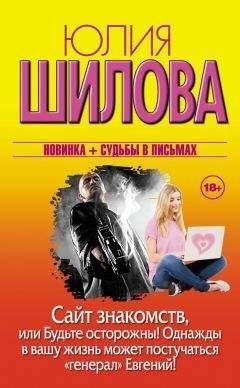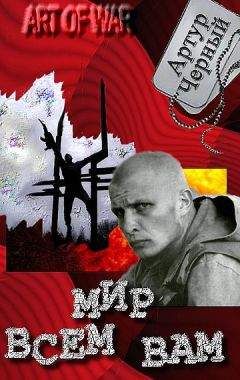Себастьян Жапризо - Дама в автомобиле в очках и с ружьем
Дверь в соседнюю комнату была отворена. Там, как я и ожидала, стояла широченная кровать, покрытая белым мехом, а напротив нее, на стене, висела наклеенная на деревянный подрамник черно-белая фотография обнаженной девушки, прекрасная фотография, которая передавала даже пористость кожи. Эта девушка уже не сидела на ручке кресла, а стояла спиной к снимавшему, и только одно плечо и лицо были повернуты к объективу. Но это была не Анита Каравей и не какая-то другая женщина, на которую можно было бы свалить все грехи. Это была я.
Я подождала, пока меня перестанет бить дрожь, потом сменила очки — очень медленно, с трудом, потому что пальцы мои были словно парализованы, а к горлу подступал какой-то тошнотворный комок, который, казалось, сейчас вырвется наружу. Я убедилась, что у девушки на фотографии моя шея, мои плечи, мои ноги, что передо мной не какой-нибудь фотомонтаж. Уж в этом-то я тоже поднаторела и не ошибусь. И вообще я с чудовищной ясностью сознавала: это я.
Наверное, я просидела там, на кровати, глядя на эту фотографию и ни о чем не думая, час, а может, и больше, — во всяком случае, уже стемнело, и мне пришлось зажечь свет.
После этого я сделала одну глупость, я и сейчас еще стыжусь этого: я расстегнула юбку и пошла к двери, которая, как я знала, ведет в большую, с зеркалом, ванную комнату — вопреки моим ожиданиям она оказалась облицованной не черной плиткой, а красной и оранжевой, — чтобы убедиться, что я действительно такая, какой представляюсь себе. И вот так глупо стоя раздетой в тишине этого пустынного дома — юбка на полу, трусики спущены, — я вдруг встретилась с собственным взглядом, которого всю жизнь избегала: на меня сквозь очки смотрели чьи-то чужие глаза, пустые глаза, еще более пустые, чем дом, в котором я находилась, и все же это была я, да, я.
Я оделась и вернулась в комнату с черным кожаным диваном. Проходя через спальню, я снова взглянула на фотографию. Насколько я вообще еще могла доверять себе, снимок сделан в моей квартире на улице Гренель. Объектив запечатлел меня в ту минуту, когда я шла от постели к стенному шкафу, где висят мои платья; я обернулась, и на моем лице застыла улыбка, полная то ли нежности, то ли любви, не знаю.
Я включила повсюду свет, заглянула в шкафы, поднялась на второй этаж. Там, в одной из комнат, служившей чем-то вроде фотолаборатории, в ящике тумбочки я нашла две большие мои фотографии, снятые при плохом освещении, они лежали среди кучи других фотографий незнакомых мне девушек, тоже обнаженных. На этих двух снимках на мне еще была кое-какая одежда. На одной я с отсутствующим взглядом сидела полураздетая на краю ванны и снимала чулки. На второй — анфас — я была в одной только блузке, которую выбросила уже года два назад, и смотрела куда-то вниз. Я разорвала оба снимка в клочья, прижав их к груди, так как почти не владела левой рукой. Я не могла не сделать этого. Думаю даже, это принесло мне некоторое облегчение.
В какой бы комнате я ни раскрывала шкаф, я всюду обнаруживала свои следы. Я нашла свои комбинации, старый свитер, черные брюки, два платья. Рядом с разобранной кроватью, от простыней которой исходил запах моих духов, валялась моя серьга, а на столике лежали листки, исписанные моим почерком.
Я собрала все свои вещи (и где-то забыла их, пока спускалась на первый этаж) и снова вернулась в кабинет, где лежу сейчас. На стене, напротив освещенного экрана, в специальной подставке стоят несколько ружей. На полу, посреди синего ковра, я заметила квадратное пятно, более темное, чем остальная часть ковра, словно раньше там лежал небольшой коврик, который потом убрали. На стуле — мужской костюм, тоже синего цвета, пиджак аккуратно повешен на спинку, брюки лежат на сиденье. Я достала из кармана пиджака бумажник, бумажник Мориса Коба. По фотографии на водительских правах я поняла, что это был именно тот самый скуластый мужчина с гладкими волосами, который разлагался в багажнике «тендерберда». Никаких других воспоминаний он у меня не вызвал, ничего нового не дало мне тщательное обследование бумажника.
Когда я входила в дом, в прихожей я видела телефон. Я достала из сумочки клочок бумаги, на котором был записан номер телефона гостиницы в Женеве, где остановились Каравеи, и заказала его. Мне ответили: «Ждать придется час». Я вышла в сад, села в машину и отвела ее за дом, к какому-то строению вроде сарая, где стояли трактор, большой пресс для винограда, вилы. Совсем стемнело. Мне было очень холодно. Меня все время била дрожь. И в то же время холод бодрил меня, во мне появилось какое-то бешенство, упорство, какое-то незнакомое мне дотоле чувство нервного напряжения, которое поддерживало меня, придавало каждому моему движению необычайную уверенность. Несмотря на полный сумбур в голове, мне казалось, что я соображаю быстро и правильно, и это было очень странно.
Я открыла багажник и, уже не думая о зловонии, которое исходило оттуда, не обращая внимания на острую боль в левой руке, схватила в охапку труп, завернутый в коврик, и стала тянуть его изо всех сил, передохнула и снова принялась тянуть до тех пор, пока он не вывалился на землю. Затем я втащила его в сарай. Запихнула в дальний угол, привалив к стене, прикрыла сперва ковриком, а сверху накидала все, что попалось под руку: доски, плетеные корзины и какие-то инструменты. Потом я вышла из сарая и закрыла обе створки двери. Они заскрипели. Я помню этот скрип и помню также, что в правой руке я держала ружье с черным стволом, что я не хотела расстаться с ним, даже когда закрывала дверь сарая, и вообще ни за что на свете не согласилась бы с ним расстаться.
Позже, когда я снова поставила машину перед домом, погруженным во мрак и тишину, зазвонил телефон. Я стояла у аппарата, прислонясь к стене, закрыв глаза и левой рукой прижимая к себе ружье, надеясь, что это — мой последний шанс спастись от безумия. Я протянула руку и сняла трубку. Женский голос сказал:
— Женева на линии. Говорите.
Я поблагодарила. Я еще была способна произносить слова. Потом я услышала другой голос, это ответила гостиница «Бо Риваж». Я спросила, у себя ли мадам Каравей. Да, у себя. Зазвучал третий голос — живой, удивленный и дружелюбный, — голос Аниты. И тут у меня снова полились из глаз слезы, мною овладела надежда — а может быть, лишь страстное желание обрести надежду — с неведомой мне дотоле силой.
Я разговаривала с Анитой так, как говорила бы с ней до того, как попала в этот дом, и даже больше, как давным-давно, когда нам было по двадцать лет, до той майской ночи, когда она тоже была на грани безумия, а я даже не попыталась помочь ей, до того раннего майского утра, когда я, вернувшись домой, застала ее отрезвевшей, сломленной отвращением, впервые в жизни рыдающей при мне, а я отказалась признать себя хоть чуть-чуть виноватой в том, что произошло. «Ну почему же ты меня бросила? — твердила она без конца как заклинание, — почему ты меня бросила?» У меня не хватило мужества даже слушать это, и я, избив ее, чтобы она замолчала, вышвырнула за дверь.
Я начала рассказывать Аните, которая не понимала из моего рассказа ни слова и заставляла меня по три раза повторять одно и то же, что, после того как я печатала у нее в квартале Монморанси, я уехала, воспользовавшись ее «тендербердом». «Чем-чем?» Она не знала, что это такое, она даже не могла по телефону разобрать это слово. Единственное, что она слышала хорошо, это мои рыдания, и все время спрашивала: «Боже мой, Дани, где ты? Что с тобой, Дани?» Она не видела меня после нашей ссоры в кафе на площади Оперы в сочельник. Она никогда не жила в квартале Монморанси. «Боже мой, Дани, это какая-то шутка? Скажи мне, что это шутка. Ты же прекрасно знаешь, где я живу». Она живет на авеню Моцарта, авеню М-О-Ц-А-Р-Т-А, да и вообще, если бы Мишель Каравей привел меня к ним печатать на машинке, она бы меня увидела, она бы об этом знала. «Умоляю тебя, Дани, скажи мне, что происходит».
Мне кажется, что сквозь слезы, сквозь икоту, которая не давала мне говорить, я засмеялась. Да, засмеялась, это был смех, хотя и несколько странный. Теперь уже она была потрясена, она кричала: «Алло! Алло!» — и я слышала ее прерывистое дыхание на том конце провода.
— Дани, где ты? Боже мой, умоляю, скажи хотя бы, где ты?
— В Вильнёве-лез-Авиньон, Анита, послушай, я тебе все объясню, не волнуйся, мне кажется, все обойдется, я…
— Где ты, повтори, где?
— В Вильнёве-лез-Авиньон, департамент Воклюз. В одном доме.
— Боже мой, но как… Дани, в каком доме? С кем ты? Как ты узнала, что я в Женеве?
— Наверное, слышала на работе. Сама не знаю. Наверное слышала.
— Скажи, есть кто-нибудь рядом с тобой, передай ему трубку.
— Нет, никого нет.
— Боже мой, но ты же не можешь оставаться одна в таком состоянии! Я не понимаю. Дани, я ничего не понимаю.
Я почувствовала, что теперь плачет и она. Я попыталась ее успокоить, сказала, что, после того как я услышала ее голос, мне стало легче. Она мне ответила, что Мишель Каравей с минуты на минуту вернется в гостиницу, он что-нибудь придумает, как мне помочь, они мне позвонят. Может быть, она прилетит ко мне самолетом. Она взяла с меня слово, что я никуда не уйду и буду ждать их звонка. У меня и в мыслях не было ждать кого бы то ни было, но я все же пообещала ей не уходить и, когда повесила трубку, с истинным облегчением вспомнила, что Анита от волнения даже не спросила у меня номер телефона, куда мне звонить, и не будет знать, как меня найти.