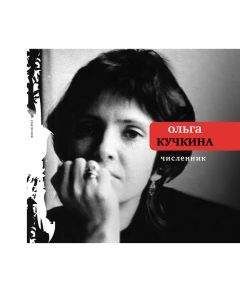Ольга Кучкина - В башне из лобной кости
И снова это ее понимаешь звучало до странности родственно, если не по-матерински, то по-дружески, ей-богу. Я ничего не понимала. Что значит его будущее, спросила я, что имеется в виду. Или ты дура, прозвучал ответ, или притворяешься, его будущее — картины, которые он написал и которые принесли ему всенародную славу и будут приносить, народ знает его как гуманиста и патриота и не потерпит изменения статуса, и кто бы и как бы ни стремился его опорочить, выдать за другого, не получится, все будет так, как было, без никаких сумасшедших работ, понимаешь, я не позволю, чтобы кто-то, кому приснилось, что они были, перечеркнул все им достигнутое.
Вы знали, что он показал мне свои сумасшедшие, как вы говорите, работы, углубилась я в самую глубь, мне нечего было терять. Я не знала, отвечала она сипло, я не знала, потому что ничего этого не существует, я угадала, что он опять выкинул штуку, я всегда угадывала, живя рядом, потому что он, при всей своей мощи, был беспомощней ребенка, когда у него бывало в башке такое, что готов был разбить ее об асфальт, и никто тогда не мог поручиться, что из него полезет, то ли дрянь, то ли наоборот, в одну из таких минут он и доверил тебе, и доверился, я же знаю, что для него значило довериться, у него таких доверенных лиц было раз-два и обчелся, проверял и перепроверял, и кто не проходил проверки, он умел сделать так, чтоб они исчезли. Навсегда, перебила я ее, будто Окоемов по-прежнему был жив и угрожал так же обойтись со мной. Навсегда, обрезала она, навсегда из его жизни, но главное, что с закрытым ртом, исчезали и больше не открывали рта, понимаешь!
Мне снова, как уже было, представилась средневековая пытка, после которой человек не мог разомкнуть уст. Вы схожи характерами, прорезалось у меня неожиданное любопытство. Не твое собачье дело, обрезала она опять, как сиамские близнецы. Хорошо, я постаралась быть как можно мягче, а если у кого-то другой взгляд на эти вещи, вообще другой, если я, положим, считаю, что человеческая драма, в любых проявлениях, не может отвратить, а может лишь вызвать большее сострадание. Мне плевать, она скомкала пустую пачку от папирос, плевать на твой взгляд и твое дамское сострадание, ему живому оно не было нужно, а мертвому тем паче, он терпеть не мог этих ваших нервических штучек, как и я, мы другой породы, мы из действующих, а не наблюдающих, мы из героев, а не пораженцев, победителей, а не побежденных, понимаешь!
Я вспомнила, как он говорил то же самое. Они действительно походили на сиамских близнецов.
Еще один вопрос, сказала я, что с его записками независимого соглядатая? Она только что не зарычала, как разъяренная пантера: какие записки, он тебе сказок понасказывал, а ты всё на веру, не поняла, как он шутки с визитерами шутил, как измывался над вами, это была часть его отношений с миром, который он презирал, в отличие от того, который оставался для него святым, понимаешь, а шушера, что вокруг колготилась, получала свое, и ты своей очереди дождалась, и тоже получила, и убежала, держа в ладошке, думая, что там ценный камешек, а там стекляшка, он тебе небось еще лапши на уши понавешал, как пьянь-рвань на него напала, он любил выворачивать штаны швом наизнанку, для кого бандиты, а для него люди, люди, и люди были готовы для него на все, понимаешь, а он все наоборот выворачивал, сочинял и с независимым соглядатаем ловко сочинил, он ловкий был, он ловил души, ловил и вязал, как мою уловил однажды и насовсем, а теперь она без привязи, как сирота, болтается, но ты в этом ни бум-бум, ты в осколках бум-бум, а в целом нет. Она умолкла и, подумав, добавила: нет, про ни бум-бум я наврала, по правде я достала из его стола и прочла, что ты там соорудила насчет Василия и Василисы, что-то ты в этом петришь.
Она произнесла слово из нашего детства.
Знаете что, давайте обнимемся, сделала я ей неожиданное предложение. Сильным щелчком она сообщила движение по большой дуге окурку, отхаркнула и смачно сплюнула на землю. После чего крепко стиснула меня своими клешнями. А я ее. Это никакой роли не играет, я была, есть и буду свободным человеком в помыслах и поступках, предупредила я, а просто. Она встала и пошла, почти метя сухие листья развевающимися полами своего длинного фиолетового плаща, фигура из другой жизни, со спины еще более могучая, памятник, вроде Тимирязева, всем действующим лицам, героям и победителям в мире, из которого ушли и уходят последние, а остаются нелеченые и неоперабельные простаты в паху и в мозгу, отчего жалкое, слезливое и маломощное сделалось преобладающим. Постойте, крикнула я вслед фиолетовой фигуре. Она остановилась: что еще. Кругом никого не было, и я не слишком напрягала голос. Он был брюнет или блондин, лысый или с шевелюрой, спросила я. После паузы она на весь сквер огласила: он был сумасшедший, а ты вдесятеро.
Почему она взялась говорить мне ты, хотя могла бы не тыкать, я ненамного ее младше. Ее заслонила стайка откуда-то взявшихся молодых людей, а когда они миновали, она исчезла, растаяла в воздухе, как будто ее никогда не было.
Ее муж, если мне не изменяет память, говоря, что по натуре победитель, уточнял, что может быть побежден, столкнись он с кем-то в минуту своего художественного поражения.
68
Мой любимый роман Шум и ярость Фолкнер назвал своим самым прекрасным, самым блистательным поражением.
69
Я собиралась с силами, чтобы позвонить Лике. Позвонить ничего не стоило. Стоило — разобраться с собой. Встреча с Василисой была узловой. Следовало хорошенько подумать, прежде чем приступить к разговору о явлении Василисы. Горячечным бредом повторялось: да знала ли она, земная из земных, пусть и молниеносная, своего сиамского близнеца? Останавливало трезвое: уж ей-то дано было знать побольше твоего. Давило безысходное: что приходил и ушел неузнанным. А если признанный мэтр, кумир, ушел таковым, чту говорить о сонме малых, сирых и убогих, чьи миры умерли и будут умирать невскрытыми, как консервные банки, чей срок просрочен и они валяются в мусорной куче, гния. Зачем тогда всё? Зачем несчастные, обреченные человеческие существа?
Лика опередила меня. Голос у нее звенел, дрожал и трясся, словно она ехала в трамвае, и трамвай подпрыгивал на стыках рельс.
— Але, вы слушаете, у меня несчастье, муж попал в реанимацию, я приехала, его нет, а комната открыта, не поняла, почему, и тут возникает соседка, мы снимаем комнату в коммуналке, я не говорила вам, и докладывает, что он упал прямо в кухне, из кухни и забрали, счастье, что соседка, и что наткнулась на него, и сообразила сразу позвонить, и счастье, что приехали быстро, только никак не могли определиться с больницей, куда везти, повезли в одну, в другую, время потеряли, это уж его лечащий врач все откровенно рассказал, такой внимательный, душевный, отзывчивый, я прямо облегчение испытала и даже расхохоталась от счастья, какой редкостный доктор попался, диагноз — обширный инсульт, а ему сорока нет, он моложе меня на пять лет, говорила я вам или нет.
Говорила. Она еще добавляла какие-то детали, деталей было много, они повторялись, и повторялось слово счастье, и повторение его жгуче действовало мне на нервы. Она вдруг перебила сама себя:
— Говорила я вам или нет, что во всех синхронах, которые я записала, содержится одно и то же, что на людей, которые пересекались с Окоемовым и хоть в чем-то ему перечили, обязательно сваливалась какая-нибудь, мягко говоря, неприятность, да вы сами должны знать, Оборин сломал ногу, Оробьянова лишили кафедры, Окича бросила жена, Оташук погиб.
С Оташуком было громкое дело. Режиссер художественного кино, он задумал фильм по военным картинам Окоемова: только полотна и за кадром строфы поэтов, от Овидия до Окуджавы, и никаких изысков. Приехал к Окоемову, поделился замыслом. Окоемов одобрил. Они подружились. А когда Оташук показал Окоемову готовую ленту, тот, ни слова не говоря, подал на режиссера в суд и выиграл процесс. Ленту запретили. Схема та же. Оташук впал в депрессию и в депрессивном состоянии попал под колеса случайного КамАЗа. Кто-то утверждал, что неслучайного, но родня настаивала, что случайного. Как-то было связано с наследством или страховкой, я не разобралась, и не разбиралась.
— Лика, если вы хотите сказать, что ваш муж попадает в этот скорбный список, то я скажу вам, что я жена хана Батыя.
Не знаю, откуда вывернулся Батый. Не лучший аргумент в споре, которого, собственно, и не было.
О Василисе я не обмолвилась ни звуком. Не до Василисы было.
Я могу внезапно расхохотаться от счастья, говорил мне Окоемов осенью, когда был жив.
70
Или женщина перекидывалась, или приходили разные женщины. Плечистая пава с темными волосами постепенно превратилась в мелкую крашеную блондинку сливочно-розового цвета, с низким тазом, который стремилась приподнять за счет высоченных каблуков, при каждом шаге проваливавшихся в грязь, когда шла от калитки к дому и шел дождь. Скоро она остригла крашеные пряди, закоптилась лицом, вытянулась в длину и стала напоминать копченую селедку. Я наблюдала превращения с недоумением, раздражением и неприязнью, всего понемногу. Мы понимали, что Толян излечивает свою застарелую любовь-болезнь, и надо радоваться. Я радовалась. Как-то она быстро иссякла, радость. Я ругала себя за чистоплюйство, говоря, что меня не касается. Мы с мужем, изредка обсуждая явление гостий, оба говорили, что нас не касается. Но, помимо нашей воли, действовали какие-то санитарные нормы, особенно когда обнаруживались следы женского присутствия у нас в ванной. Да ведь взрослый мужик, и жизнь у него, соответственно, взрослая, а мы сбоку припека. Ни с одним из перевоплощений нас не познакомили. Мясо для Милорда приносит, поведал Толян мужу, когда селедка прошествовала мимо наших окон как-то поутру, и муж бестактно спросил: а это что за чудо-юдо. Толян любил Милорда наравне с Милкой. Просто Милорд его не бросил, а Милка бросила, и на какое-то время Толян про Милорда забыл, и теперь виноватился перед ним, а что ему носили мясо, несомненно, требовало встречной благодарности. Мы должны были Бога молить, что так, а не придираться по пустякам.