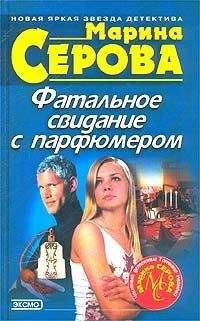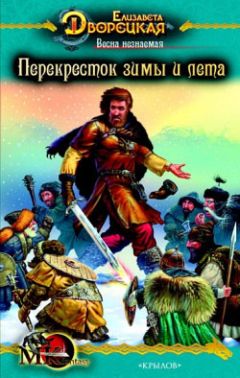Донна Леон - Смерть в «Ла Фениче»
— А по-моему, тебе вполне хватает карандаша!
— Хватает, только работать придется лет сто!
— А может быть, лучше тренировать собственные мозги, чем перекладывать всю работу на машину?
— Это глупо, папочка. Мозги ведь не мышцы. Мы проходили по биологии. Кстати, сам-то ты не идешь через весь город, когда тебе нужно что-то узнать, а звонишь по телефону.
Вместо ответа он пихнул ее пятки своими.
— Ведь я права, папочка?
— Ну а что ты собираешься делать в освободившееся время?
— Решать более сложные задачи. Честное слово, папочка. Он просто все это делает быстрее. Эта машина просто-напросто складывает и вычитает в миллион раз быстрее, чем мы.
— Ты случайно не в курсе, сколько такая штука может стоить?
— В курсе. Маленькая «Тосиба», как я хочу, стоит два миллиона.
К счастью, вошла Паола, иначе он наверняка сообщил бы Кьяре, какова вероятность получить такой компьютер в подарок от отца. А поскольку в ответ дочь наверняка вспомнила бы дедушку, то приход Паолы явился облегчением вдвойне. Она принесла бутылку «Фраголино» и второй стакан. В это время щебечущие голоса в телевизоре наконец затихли, и послышались звуки вступления к третьему действию.
Паола поставила на столик бутылку и села на подлокотник дивана, поближе к нему. На экране поднялся занавес, обнажив убогую каморку. Было невозможно узнать Флавию Петрелли, женщину, которую он видел во всей победной силе ее красоты чуть больше часа назад, в этом изможденном существе, полулежащем на кушетке, кутаясь в шаль и бессильно уронив руку на пол. Теперь она больше напоминала синьору Сангину, чем блестящую куртизанку. Темные круги под глазами и горькая складка нарисованных губ убедительно свидетельствовали о нищете и отчаянии. Даже голос, которым она просила Аннину отдать ее последние гроши нищим, казался слабым, надломленным болью и утратой.
— Хороша, — отметила Паола.
Брунетти шикнул на нее. Они продолжали смотреть молча.
— Придурок, — отпустила Кьяра в адрес Альфреда, вбежавшего в каморку и заключившего умирающую в объятия.
— Шшш, — зашипели на нее оба родителя. Девочка снова погрузилась в свою цифирь, пробормотав на вдохе «сс-скотина», — достаточно, впрочем, громко, чтобы родители слышали.
Брунетти видел, как от счастья встречи с любимым меняется лицо Петрелли, как ее озаряет неподдельное ликование. Вот они вместе мечтают о будущем, которого у них нет, и ее голос тоже меняется, вновь обретая силу и чистоту. Радость ставит ее на ноги, она простирает руки к небу.
— Я чувствую, что снова родилась! — восклицает она, вслед за чем, в согласии с либретто, теряет сознание и умирает.
— Все равно он скотина и ничтожество! — настаивает Кьяра под скорбные сетования Альфреда и гром аплодисментов. — Даже если бы она не умерла, на что бы они жили? Или предполагается, что она вернется к своему прежнему занятию?
Брунетти совсем не хотелось услышать, как именно его дочь представляет себе это самое занятие. Высказавшись, Кьяра принялась строчить какие-то цифры внизу листка, а потом, сунув листок в учебник, с треском его захлопнула.
— Я даже не представляла, какая она замечательная, — с уважением проговорила Паола, проигнорировав заявление дочери. — Что она за человек?
В этом вся Паола. Не важно, что певица, возможно, причастна к убийству— это не повод заинтересоваться, что она за человек. А вот когда своими глазами увидишь ее на сцене…
— Да просто певица, — ответил он уклончиво.
— Понятно, а Рейган был просто актер, — парировала Паола. — Какая она?
— Очень самоуверенная, боится лишиться детей и предпочитает носить коричневое.
— Давайте ужинать, — перебила Кьяра. — Умираю от голода!
— Тогда пойди накрой на стол, а мы придем через минуту.
Кьяра с демонстративной неохотой поднялась с кресла и поплелась на кухню, сделав напоследок заявление:
— Теперь, конечно, ты вытянешь из папочки, какая она на самом деле, а я, как всегда, прослушаю самое интересное.
Главнейшим несчастьем Кьяриной жизни была полная невозможность вытянуть из отца сведения, конвертируемые в реальный капитал — популярность общешкольного масштаба.
— Вот интересно, — сказала Паола, наполняя вином оба бокала, — где она выучилась так играть. Моя тетка умерла от туберкулеза, когда.я была еще совсем маленькая, так я до сих пор помню, что руки у нее постоянно двигались — точно как у Виолетты на сцене, как она все время шевелила пальцами на коленях и сжимала одну ладонь другой. — И далее, что характерно, без всякого перехода: — Думаешь, это она?
Он пожал плечами:
— Могла. Мне все, как один, талдычат про ее бешеный латинский темперамент, про ее страстную натуру, что она, мол, из тех, кого обидеть не успеешь, как получишь ножик под ребро. Но ты только что сама видела, как она играет, так что все возможно — и холодный расчет, и все остальное, что нужно для подобных вещей. К тому же она, по-моему, неглупа.
— А ее подружка?
— Американка?
— Да.
— Не знаю. Говорит, будто Петрелли заходила к нему после первого действия, но только для того, чтобы закатить ему скандал.
— По какому поводу?
— Он угрожал сообщить ее бывшему мужу насчет ее связи с Бретт.
Наверное, Паола все же удивилась, что американку вдруг назвали по имени.
— Говоришь, у нее есть дети?
— Да, двое.
— В таком случае это серьезная угроза. А что насчет этой Бретт, как ты ее назвал? Она не могла?
— По-моему, нет. Эта связь для нее— не самое важное в жизни. Да она бы этого себе и не позволила. Нет, не похоже.
— Ты все-таки не ответил насчет Петрелли.
— Знаешь, Паола, я всегда ошибаюсь, когда слушаюсь интуиции и начинаю кого-то слишком рано или слишком сильно подозревать. Пока мне ясно только одно: это так или иначе связано с его прошлым.
— Ну, ладно, — сдалась она, — Пойдем поедим. У нас курица с артишоками и бутылка полусладкого.
— Хвала Создателю, — отозвался он, вставая. Потом помог ей подняться с диванного валика, и вместе они пошли на кухню.
И как всегда, за мгновение до того, как ужину оказаться на столе, из своей комнаты явился Раффаэле, первенец и наследник Брунетти, — высокий для своих пятнадцати и очень похожий на отца и обликом, и жестами. Во всем остальном он не походил ни на кого из родни и наверняка возмутился бы, услышав предположение, что своим поведением он хоть чем-то хоть кого-то из них напоминает— будь то живые или усопшие. Он открыл, — сам! — что мир порочен, а общественная система несправедлива и что во всем этом заинтересованы исключительно власть имущие. Атак как ему, первому на белом свете, сие открытие явилось во всей своей силе и ясности, то парень не уставал демонстрировать свое полнейшее презрение к тем, кто подобного просветления покуда не сподобился. В их число, естественно, попадала вся родня, за исключением, может быть, только Кьяры, которая освобождалась от ответственности за социальную несправедливость отчасти по малолетству, а отчасти потому, что на нее всегда можно рассчитывать в смысле половины ее карманных денег. Впрочем, и дедушке-графу, похоже, удалось протиснуться сквозь игольное ушко — это уж совершенно непостижимым образом.
Парень ходил в классический li>сео, где, по идее, должен был готовиться к университету, но последний год занимался что-то неважно и с недавнего времени повел разговоры, что дальше учиться не станет, потому как «образование — это оборотная сторона системы угнетения трудящихся». Но и работу себе искать— если бросить лицей, — он не намерен, чтобы не стать жертвой «системы угнетения трудящихся». Таким образом, дабы не стать угнетателем, он отказывается получать образование, а чтобы избежать угнетения, он не будет работать. Логика, на взгляд Брунетти, совершенно иезуитская.
Раффаэле лезет за стол, растопырив локти. Брунетти спрашивает, как дела — этой темы пока можно было касаться безбоязненно.
— О'кэй.
— Передай хлеба, Раффи. — Это Кьяра.
— Не ешь эту чесночину, Кьяра. Потом будешь неделю благоухать. — Это Паола.
— Замечательная курица! — Это Брунетти. — Что, откроем еще бутылочку?
— Да, — ликует Кьяра, подставляя свой бокал. — Я же еще не попробовала!
Брунетти достает из холодильника следующую бутылку, откупоривает и обходя вокруг стола, наливает каждому. Стоя за спиной у сына, он словно невзначай кладет руку ему на плечо, покуда наклоняется над столом. Тот рывком сбрасывает его ладонь, а потом ловко выдает это движение за попытку дотянуться до артишоков, которые всю жизнь терпеть не мог.
— А что на десерт? — спрашивает Кьяра.
— Фрукты.
— А торта не будет?
— Поросенок ты, — замечает Раффаэле, не критикуя, просто констатируя.
— Не сыграть ли в «монополию» после ужина? — спрашивает Паола и, не дожидаясь согласия детей, ставит условие: — Если только все уроки сделаны.
— У меня сделаны, — сообщает Кьяра.