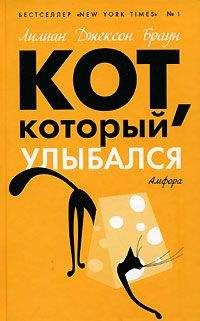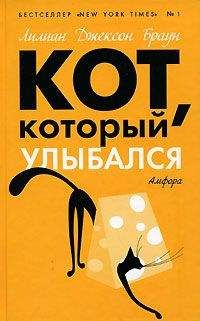Барбара Гордон - Польский детектив
Из всего этого довольно большого фрагмента Хмура отметил лишь одну фразу своим красным карандашом: «Фирко я и сегодня удушил бы своими руками». Однако не снабдил этот протокол никакими комментариями. Тему Камы он, видимо, считал исчерпанной, потому что больше не возвращался к этому вопросу на допросе Тадеуша Фирко, директора кинообъединения «Вихрь», вдовца, 58 лет. С Фирко Хмура обсуждал главным образом финансовые проблемы «Вихря», потому что именно Фирко знает их лучше, чем кто бы то ни было другой.
Фирко говорит много, нудно, сыплет профессиональными терминами и цифрами. Не знаю, следил ли Хмура внимательно за его рассуждениями — я лишь бегло проглядываю страницы протокола и останавливаюсь в двух местах, которые кажутся мне важными для следствия:
«Можно ли утверждать, что „Вихрь“ находится на краю банкротства? Слишком резко сказано, но довольно близко к правде. Во всяком случае, банк заморозил наш счет и отказывается производить выплаты…»
«Почему вы спрашиваете меня о результатах ревизии и выводах комиссии? Они вам известны. Прежде, чем кинообъединение „Вихрь“ будет ликвидировано, необходимо установить степень личной финансовой ответственности лиц, руководивших объединением и работавших в нем… Очень неприятная ситуация. Но, слава богу, не для меня. У меня на все есть документы, счета, квитанции, расписки, приказы и так далее с подписями Барса и Бодзячека. Особенно Барса. Он велел платить, я платил. Мне-то ничего не грозит. А он пусть объясняется».
Не знаю, будет ли в самом деле так, как представляет это себе Фирко, и удастся ли ему уйти от ответа. Сомневаюсь, хотя, как видно, водка еще не убила в нем умения пользоваться юридическими крючками, которые часто помогают укрыть истинное положение дел.
Видно, что Хмуре он омерзителен, потому что, как ни странно, он не расспрашивает Фирко ни про Мариолу, которой он якобы приходится родным отцом, ни про неприязнь к Божене и Проту, ни про многое другое, о чем, мне кажется, должен был спросить. Может быть, Хмуре все ясно и понятно? И говорить уже не о чем? Лишь к одному вопросу упрямо возвращается Хмура, повторяет его снова и снова, расспрашивает подробно и долго: какую роль в объединении играет Бодзячек и каковы его отношения с Барсом?
Фирко, несомненно, будет одним из первых дезертиров разбитой армии Барса, поскольку он и не скрывает своего мнения о двух этих джентльменах:
«Если Барс кого-нибудь когда-нибудь и боялся, то только Бодзячека. Он давно уже хочет избавиться от него любой ценой, но до сих пор это ему не удавалось. Бодзячек хоть и кланялся ему, хоть и изображал из себя преследуемого и обиженного, но свое дело делал и не сдавался. В последнее время он плел интриги вокруг меня. Может, рассчитывал на то, что я поддержу его, может, хотел что-то у меня вывёдать. Он как-то разоткровенничался со мной и объявил о своем намерении уйти из объединения и опубликовать большую критическую статью о положении в нашем кино и, в частности, в „Вихре“. Я подозреваю, что он хочет успеть напечатать эту статью до того, как будет готова докладная, которую он вроде пишет для вышестоящих инстанций вместе с Нечулло. Нечулло знает факты, так что без него Бодзячек ничего бы не написал. Но под статьей он подпишется один, без Нечулло. А докладная — это ведь для внутреннего пользования, о ней общественность не узнает. Таким образом Бодзячек обскачет Нечулло. Вышел бы в авангард спасителей польского кино и безупречных стражей морали. Рыцарь без страха и упрека. Эта роль ему очень нравится. Отомстить всем, всем напакостить, только это ему и нужно. Место Барса он в любом случае занять не может, он ведь не режиссер, а литератор. Правда, со мной у него ничего не получилось. Я ему отсоветовал публикацию, а Барса предупредил о намерениях Бодзячека. Этого требовали мои отношения с Барсом — как с руководителем объединения и моим старым другом. Хотя, честно говоря, я всегда осуждал легкомысленное отношение Барса к государственным средствам и даже подал соответствующее заявление инспектору высшей контрольной палаты. Нечулло я тоже предупредил об интригах Бодзячека. Весь вечер он смотрел на Павла как на злейшего врага. Но мне важно разбивать все их альянсы. Они не сожрут меня до тех пор, пока грызутся между собой…»
Вот и получается, что одним выстрелом можно убить не двух, а трех и даже четырех зайцев. Фирко хорош для Бодзячека, хорош для Барса, для Нечулло — и даже для высшей контрольной палаты, хотя все эти четыре «зайца» преследуют совершенно противоположные цели. Нет, я недооценивала Фирко. Это серьезный игрок.
Протокол допроса Славомира Барса Хмура положил в самом конце подборки. Не знаю, случайно это вышло или нет. Скорее всего специально — чтобы испытать мое терпение, чтобы только теперь, в самом конце, я узнала, почему Павлу Бодзячеку необходимо было любой ценой заставить замолчать Иоланту.
Целые страницы рассуждений Славомира Барса Хмура пропускает мимо ушей. Его красный карандаш повисает над долгими размышлениями маэстро о непорядочности Прота, об ошибках Божены в юные годы, о двойной игре, которую ведут некоторые сотрудники объединения… Карандаш нигде не опускается, не оставляет даже черточки. Так летчик с высоты бесстрастно глядит на шахматную доску полей, лесов и лугов, на дороги и реки, вьющиеся ниточками, едва замечает крохотные точки — а ведь это люди с их большими и малыми проблемами. Но все это — не цель его полета. И только когда внизу замаячит аэродром, пилот снижает свой самолет, и вот уже выпущены шасси, и колеса чертят на посадочной полосе длинный, резкий след.
Хмура жадно бросается на фрагмент показаний, которые сам же и спровоцировал вопросом: о чем разговаривал Славомир Барс с Иолантой Кордес целый час до начала приема? Тут уж его карандаш приземляется и не расстается с показаниями Славомира Барса до последнего слова, чертит на полях сверху вниз жирную, вызывающе красную черту.
Славомир Барс рассказывает:
«Жена была обижена на меня за то, что я пригласил Иоланту на прием. К сожалению, другого выхода не было. Иоланта позвонила мне. Это был обыкновенный шантаж. Она сказала, что знает о предстоящем приеме и хочет, чтобы я ее пригласил. А если не приглашу, она все равно придет. Ей надо поговорить со мной об одном очень важном деле. Кроме того, ей надо встретиться с определенными людьми, которые наверняка у нас будут, ей было бы удобно как бы случайно столкнуться с ними. Я предложил, чтобы мы встретились где-нибудь в кафе, если уж она не хочет прийти в объединение. Отказалась. Она якобы заканчивает роман, и ей необходимо отдать его в издательство в срок, так что до пятого сентября она будет страшно занята, но как раз пятого — она совершенно свободна, и этот день идеально ей подходит для обсуждения проблем, которые и меня тоже касаются. Она даже сказала, что проблемы эти гораздо более касаются меня, чем ее. При этом она упомянула Бодзячека. Этим и объясняется мое решение. Я согласился на то, чтобы она приехала в Джежмоль. В конце концов, подумал я, главный прием мы сможем перенести на другое время, ничего страшного. Я сказал об этом Божене. Я не ожидал, что она выкинет такой фокус — пригласит Протов. Можно было заранее предвидеть, что из встречи Иоланты с ними ничего хорошего не выйдет.
Иоланта приехала на час раньше, так мы с ней договорились. Мы пошли ко мне в мастерскую, чтобы нашей беседе не помешали. Никто не имеет права входить туда без моего разрешения. Иоланта очень жаловалась на безденежье. Она написала какой-то роман, это должен был быть ее дебют, ведь до сих пор она писала только статейки и рассказики. Однако она не была уверена, что издательство примет ее произведение, поскольку, как она сказала, слишком много в нем „чернухи“ и пессимизма. Работая над романом, она забросила другие свои дела, и вот оказалась прямо-таки на краю нищеты. Она еще раз вернулась к вопросу об этом несчастном фильме „Их двое и ничто“. Она требовала, чтобы я поделился с ней деньгами, которые заработал на этом фильме как сценарист. Она сказала: „Ты должен вернуть то, что украл у меня“. Она показывала мне разные документы, какое-то заключение Союза кинематографистов, какую-то ревизию члена конфликтной комиссии Союза писателей, кстати, это ее старый знакомый. Она заявила, что подаст на меня в суд и устроит показательный процесс, что она сделает все, чтобы это дело стало крупным прецедентом. Короче, грозила скандалом. Честно говоря, мне легко было бы поставить ее на место. Слишком высоко мое положение, я слишком известен, чтобы опасаться происков какой-то Иоланты Кордес. Я бы выиграл дело. Наверняка. Но ведь она была психопатка. И что я мог бы объяснить сумасшедшей, которая хочет воевать, как Дон Кихот, с ветряными мельницами? Впрочем… признаюсь вам, пан капитан, я в данный момент нахожусь в сложном положении. Мы, люди творческие, не имеем необходимой свободы у нас в стране. Мы связаны тысячью инструкций и запретов. А если хочешь создать нечто по-настоящему великое — нельзя считать каждый грош. Гениальный скульптор испортит не одну глыбу мрамора, прежде чем из-под его долота выйдет статуя, которая обессмертит его имя. А у нас считают каждый метр пленки, якобы „бесполезно“ истраченной, каждую мелочь в реквизите. И делают это люди, совершенно не разбирающиеся в нашей работе. Например, я снимал исторический фильм. Мне нужны были старые сабли. Много сабель, я хотел показать грандиозную атаку конницы. И вот один из таких проверяющих умников говорит мне: „А может, хватит и трех-четырех? Наездники могли бы передавать их из рук в руки…“ Вот так. Снимай тут исторические эпопеи. Но извините, пан капитан. Я отвлекся от темы нашего разговора, хотя и не так сильно, как могло показаться. Дело в том, что как раз сейчас у меня в объединении сидят ревизоры, именно такие умники, как тот, о котором я только что рассказал, да еще вдобавок очень меня не любящие, а как может серый чиновник любить знаменитого художника? Тут ведь дело еще в заработках, которые в кино выше, чем у людей других профессий. Ну и, как говорится, они на нас „зуб имеют“. Да если бы они знали, как эта работа выглядит, если бы они хоть раз испытали на своей шкуре, какая это каторга — съемки фильма… Еще раз извините, я возвращаюсь к непосредственной теме нашей беседы. Так вот, ни к чему мне было бы именно в этот момент публичное выступление Иоланты с ее претензиями. Ревизоры роются у меня в мусорных ведрах и считают листы бумаги, которые мы истратили, а тут вдруг еще один аргумент против нашего объединения, добрая слава которого мне дороже всего. В связи с этим я решил утихомирить нашу разгневанную графоманку. Я прежде всего напомнил ей, что купил в свое время ее дурацкий рассказик только благодаря усиленным просьбам Вожены да потому, что у Иоланты и тогда были какие-то финансовые трудности. Я это сделал из милости. Благодаря мне она поднялась на ступень выше в своей литературной карьере. Так неужели она могла надеяться на что-либо большее, чем то, что в титрах фильма будет указано ее имя как автора рассказа, по которому — или по мотивам которого — сделан сценарий и сам фильм? Она что же, в самом деле считала, что я, Барс, стану снимать фильм по сценарию никому не известной репортерши? Что я вообще опущусь до того, чтобы снимать фильм по чьему бы то ни было сценарию, кроме моего собственного? Она молчала, подавленная моими аргументами, с довольно кислой физиономией. Тут я сделал паузу, потому что ни добивать ее, ни загонять в угол не собирался. Я объявил ей, что, несмотря на все это, понимаю ее положение и готов помочь ей, но не потому, что чувствую какую-то свою вину, а лишь потому, что мне ее жаль. Я сказал, что, конечно же, ни о каком „дележе“ гонорара и речи быть не может, это просто смешно. Однако предлагаю ей следующее: я куплю у нее любую киноновеллу, любой рассказик, да вот хоть бы этот роман, о котором она упоминала. Я не знаю, пан капитан, разбираетесь ли вы во всех этих тонкостях, что это такое — купить рассказ, или повесть, или вообще литературное произведение для кино. Это значит, что мы покупаем как бы тему, саму идею. Платим за это несколько тысяч злотых, и автор уже не имеет права предъявлять какие-либо претензии, вмешиваться в работу сценариста, который делает по его материалу что хочет. Иногда автор является и сценаристом, но только в том случае, если мы имеем дело с опытным специалистом. Люди, не имеющие опыта работы в кино, дилетанты, практически не способны написать мало-мальски приличный сценарий. За него полагается более высокий гонорар. Чаще всего сценарий пишут сценарист и режиссер фильма в соавторстве, это естественно, потому что режиссер уже тогда закладывает основу концепции своего фильма. Я мог, ничем не рискуя, купить у Иоланты любой ее рассказ в качестве материала для будущего фильма. Дело в том, что сам факт покупки не обязывает нас использовать это произведение, мы не обязаны снимать его. Иногда литературный материал лежит у нас в объединении год, два, а то и дольше, пока не найдется кто-нибудь, кому эта тема интересна, кто ею „загорится“. А иногда купленные произведения остаются мертвым грузом. Что поделаешь. Нелегкое это дело — формировать тематический план кинообъединения, работающего на таком высоком художественном уровне, как наш „Вихрь“. Иоланту мое предложение оскорбило. Она истерически взвизгнула: „Ты хочешь швырнуть мне подачку! Я не милостыни прошу, я требую то, что принадлежит мне по праву! Нет, я поняла: ты не подачку мне хочешь дать, а заплатить за молчание. За то, чтобы я успокоилась и все забыла. А я не возьму, понимаешь?!..“ — „Не хочешь — не надо“, — холодно ответил я. „Ты еще пожалеешь“, — процедила она, и на этом наш разговор закончился. Мы пошли в сад, где уже собрались гости.»