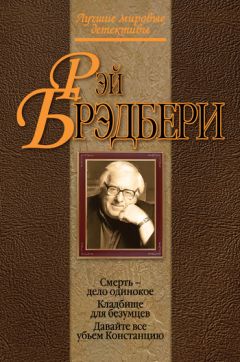Рэй Брэдбери - Кладбище для безумцев
Мы все посмотрели вниз, затем подняли глаза…
На Иисуса, который стоял, вытянув руки над костром. Он внимательно, с огромным любопытством рассматривал свои запястья.
Из них сочилась кровь.
– О господи! – выговорила Констанция. – Сделайте же что-нибудь!
– Что такое? – крикнул Фриц.
– Снимайте сцену, – спокойно сказал Иисус.
– Нет, черт побери! – закричал Фриц. – Иоанн Креститель с отрубленной головой выглядел лучше, чем ты!
– Тогда… – Иисус кивнул туда, где, словно забавный Петрушка с темным рыцарем Апокалипсиса, стояли Станислав Грок с доктором Филипсом, – тогда… пусть они зашьют и перевяжут меня, пока мы не будем готовы.
– Как ты это делаешь? – Констанция удивленно разглядывала его запястья.
– Это приходит вместе с текстом.
– Иди-ка займись чем-нибудь полезным, – велел мне Иисус.
– И прихвати с собой эту женщину, – приказал Фриц. – Я ее не знаю!
– Да знаешь, – отозвалась Констанция. – Лагуна-Бич, четвертое июля тысяча девятьсот двадцать шестого года.
– Это было в другой стране, в другое время, – отрезал Фриц, хлопнув воображаемой дверью.
– Да. – Констанция помолчала. Все сразу как-то потухло. – Да, все так.
Док Филипс подошел к левой руке Христа; Грок подошел к правой.
Иисус даже не взглянул на них – он устремил немигающий взгляд на далекое облачко тумана в небесах.
Затем перевернул руки запястьями вверх и вытянул их вперед, чтобы Филипс с Гроком могли видеть, как его жизнь вытекает из свежих стигматов.
– Осторожнее, – сказал он.
Я вышел из света во тьму. За мной последовала маленькая девочка, на ходу превращаясь в женщину.
Глава 43
– Куда мы идем? – спросила Констанция.
– Лично я – в прошлое. И даже знаю, кто для этого будет отматывать пленку назад. А ты? Останься здесь. Кофе с пончиками. Садись. Я сейчас вернусь.
– Если не найдешь меня здесь, – сказала Констанция, усаживаясь за один из столиков, расставленных для статистов прямо на улице, и беря в руку пончик, – ищи в мужском спортзале.
И я ушел один во тьму. Почти не осталось мест, куда я мог бы пойти, мест для исследования. И теперь я направлялся в сторону единственного места на студии, где еще ни разу не бывал. Там время текло по-другому. Там скрывался кинопризрак Арбутнота, а может, и меня самого, мальчишки, слоняющегося в полдень по территории киностудии.
Я шел.
И вдруг пожалел, что оставил позади смех Констанции Раттиган.
Поздней ночью киностудия разговаривает сама с собой. Если вы пройдетесь по темным аллеям мимо зданий, где на верхних этажах до двух-трех утра шуршат, скрежещут, грохочут и болтают в перерывах монтажные залы, то услышите, как в небесах гремят колесницы и ветер дует над населенной призраками пустыней «Красавчика Жеста»[138], услышите гул машин на Елисейских Полях вперемежку со звуками валторн и руганью, или грохот Ниагары, низвергающейся со студийных башен в подвалы фильмофонда, или Барни Олдфилда[139] в его последнем заезде, с ревом проносящегося на гоночном автомобиле вокруг Индианаполиса под крики безликой толпы, а потом, пройдя чуть подальше сквозь мрак, услышите, как кто-то спускает с цепи псов войны, услышите, как открываются раны Цезаря, словно розовые бутоны, сквозь разрезы в его плаще, услышите бульдожий лай Черчилля на радиоволнах и вой собаки Баскервилей над болотами, а ночной народ в этот волчий час продолжает работать, ибо треск мувиол, и трепещущее мерцание экранов, и любовь крупным планом им милее густой толпы дневного народа по ту сторону стен, оглушенного реальностью. Здесь, далеко за полночь, сталкиваются приглушенные голоса и заблудшие отрывки музыки, попавшие в облако времени между каменных стен и летящие из распахнутых в вышине дверей и окон, а на бледных потолках маячат тени редакторов монтажа, что колдуют над столами, создавая чудо. Лишь на рассвете затихают голоса, и музыка замирает, когда улыбчивые люди с ножами расходятся по домам, не желая встречаться с первыми обитателями обычного мира, приезжающими на работу к шести часам. Лишь на закате вновь раздадутся голоса, и музыка зазвучит ласково или мятежно, а трепещущий свет экранов-светлячков снова будет омывать лица смотрящих, воспламенять их взгляды и подталкивать руку с занесенными ножницами.
И среди этих зданий, звуков и музыки я бежал теперь по аллее, никем не преследуемый, глядя вверх на окна, где неистовствовал Гитлер, продвигаясь на восток, а ветер с запада доносил сквозь теплую ночь пение русских солдат.
Вдруг я остановился как вкопанный и посмотрел на… монтажную Мэгги Ботуин. Дверь была распахнута.
– Мэгги! – крикнул я.
Молчание.
Я стал подниматься по лестнице туда, где виднелся трепещущий огонек светлячка и слышался заикающийся стрекот мувиолы, а на высоком потолке мерцали тени.
Я долго стоял в темноте, вглядываясь в это единственное на всем белом свете место, где жизнь нарезают ломтями, собирают, а затем вновь разрывают на части. Место, где ты переделываешь и перекраиваешь жизнь, пока она не станет такой, как нужно. Вглядываясь в крохотный экран мувиолы, ты заводишь мотор и мчишься, неистово шлепая по волнам, а кинопленка струится по желобкам и канавкам, замирает, ставит метку и устремляется дальше. После того как ты полдня проведешь в подвальном мраке, всматриваясь в экран мувиолы, начинает казаться, что стоит выйти на улицу, и сама жизнь соберется вновь, отбросит свою глупую изменчивость и пообещает вести себя хорошо. Несколько часов работы с мувиолой пробуждают оптимизм, потому что ты можешь еще раз прокрутить свои глупости и отрезать им ноги. Но со временем возникает соблазн никогда больше не выходить на свет божий.
И вот теперь у дверей Мэгги Ботуин, чувствуя за спиной ожидающую меня прохладную пещеру ночи, я наблюдал, как эта удивительная женщина склонилась над своей машиной, словно швея, сшивающая лоскутное одеяло из пятен света и тени, и пленка струилась сквозь ее тонкие пальцы.
Я поскребся в дверь-ширму.
Мэгги оторвала взгляд от своего светящегося колодца, исполняющего желания, и, прищурившись, попыталась разглядеть сквозь сетку, кто пришел, а затем вскрикнула от радости.
– Черт меня побери! В первый раз за сорок лет сюда явился сценарист. Думаешь, проклятым идиотам любопытно, как я подстригаю им челочку или укорачиваю рукав? Погоди-ка!
Она открыла дверь и затащила меня внутрь. Я, как лунатик, подошел к мувиоле и удивленно заглянул в экран.
– Помнишь его? – устроила мне проверку Мэгги.
– Эрих фон Штрогейм[140], – выпалил я. – Фильм снят здесь, в двадцать первом году. Утерян.
– А я его нашла!
– А на студии знают?
– Эти сукины дети? Нет! Они никогда не ценят то, что имеют!
– У тебя весь фильм?
– Ага! Когда помру, он отправится в Музей современного искусства. Смотри!
Мэгги Ботуин повернула один из проекторов, прикрепленных к мувиоле, и изображение перешло на стену. Фон Штрогейм с важным видом вертелся и расхаживал вдоль стен, обшитых дубовыми панелями.
Мэгги быстро промотала фон Штрогейма и приготовилась заправить следующий ролик.
Когда она отошла, я внезапно наклонился. И увидел маленькую, не похожую на другие зеленую коробку с кинопленкой, лежащую на рабочем столе среди пары дюжин других коробок.
На ней не было печатной этикетки, лишь чернильный рисунок маленького динозавра на крышке.
Мэгги поймала мой взгляд.
– Что?
– Давно у тебя эта пленка?
– Хочешь ее? Это проба, которую твой приятель Рой закинул мне три дня назад для проявки.
– Ты ее смотрела?
– А ты нет? Студийные дураки уволили его. Что это за история? Никому ничего не сказали. В этой коробке всего тридцать секунд. Но это лучшие полминуты, какие я когда-либо видела. Лучше «Дракулы» и «Франкенштейна». Впрочем, черт, что я об этом знаю?
Мое сердце учащенно билось, коробка в моей руке дрожала, когда я засовывал пленку в карман пальто.
– Симпатичный этот Рой. – Мэгги заправила в мувиолу новую пленку. – Дай мне щетку, и я почищу ему ботинки. Ладно. Хочешь посмотреть единственную нетронутую копию «Сломанных побегов»[141]? А купюры из «Цирка»[142]? Зарубленная цензурой часть из «Приветствуйте опасность»[143] Гарольда Ллойда? Черт, да тут еще куча всего. Я…
Мэгги Ботуин замолчала, опьяненная воспоминаниями и моим неотрывным вниманием.
– Да, думаю, тебе можно доверять. – Она помолчала. – Ну что же это я, все болтаю да болтаю. Ты ведь не затем пришел сюда, чтобы слушать, как старая курица болтает про свои яйца сорокалетней давности. Как получилось, что ты единственный из сценаристов заглянул ко мне сюда, наверх?
«Арбутнот, Кларенс, Рой и чудовище», – подумал я про себя, но ничего не сказал.
– Ты что, язык проглотил? Ладно, подождем. Так о чем это я? Ах да!
Мэгги отодвинула дверь огромного стенного шкафа. Там на пяти полках было расставлено по меньшей мере сорок коробок с пленкой, и на ободке каждой выведено название фильма.