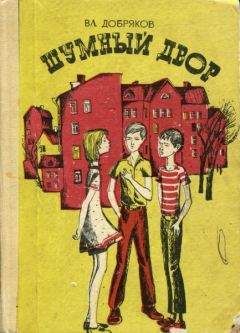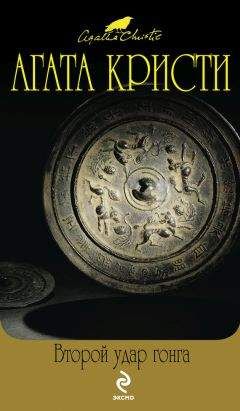Анна Малышева - Алмазы Цирцеи
Гаспар с торжествующим видом ждал ответа, а я в этот миг гордилась им. Но только почему он так поздно проявил свой недюжинный ум! Увы, никакие уловки не смогут спасти нас от разорения. Панно было оставлено, никто не захотел ссориться с моей влиятельной родней, камни уцелели… Но больше у нас ничего нет. Мы в полном смысле слова нищие. Чувствую страшный упадок сил, больше не могу писать. Этот день может стоить мне жизни».
В начале марта 1636 года, по печальному совпадению, примерно в тех же числах, когда попала в больницу и скончалась Альбина, в Брюгге было отправлено последнее письмо, которое Александра извлекла из пачки. Она поняла, какое известие в нем заключено еще прежде, чем прочитала первые строчки, написанные уже другим почерком – крупным и неровным, тут и там украшенным залихватскими росчерками, похожими на страусиные перья.
«Любезная сестра, – писал Доротее сам Гаспар Ван Гуизий, как убедилась трепещущая художница, тут же взглянув на подпись, – сообщаю вам печальную весть, которую вы должны перенести с христианским смирением. Сего числа, четвертого марта, незадолго до полуночи, скончалась от родов моя драгоценная супруга, Каролина, оставив меня вдовцом с малюткой на руках. Она разродилась девочкой, хрупкой и слабенькой, так как дитя появилось на свет месяцем раньше срока. Умирающая успела высказать пожелание, чтобы дитя назвали в вашу честь, сестрица. Обстоятельства мои таковы, что я сам не могу растить этого ребенка. Дом на углу Еврейской улицы, хозяином которого я еще являюсь, на будущей неделе идет с молотка, так что я остаюсь на улице с тем жалким скарбом, который господа банкиры не сумели у меня отобрать. Если вы, сестрица, будете так добры, что сами приедете и заберете названную вашим именем малютку или же пришлете за ней кого-нибудь, я буду вам навеки признателен, потому что у меня на руках это дитя не проживет и месяца. Надеюсь, что вы и ваше уважаемое семейство сможете вырастить девочку в лучших правилах благочестия, которым отличалась моя покойная супруга Каролина, урожденная Ван Хейс. Я же, несчастный отец несчастной малютки, не могу дать ей ничего, кроме своего запятнанного имени и отцовского благословения – а имеет ли оно хоть какую-то цену, исходя от человека, погубившего свое имя и состояние, истерзавшего чистую, невинную душу своей утраченной супруги? Впрочем, маленькая Доротея Ван Гуизий не нищая. Вместе с девочкой я отошлю в Брюгге свое панно, которое у меня много раз пытались купить за высочайшую цену и которое я никому не желал продавать, так как оно некогда удостоилось одобрения самого Хендрика де Кейсера и послужило мне пропуском в цеховую корпорацию… Также я даю в приданое дочери восемь розовато-лиловых крупных алмазов, недавно приобретенных мною, редких и имеющих высочайшую цену. Ожидаю скорейшего ответа и да пребудет с вами милость Божия, любезная сестра».
Это последнее письмо само по себе представляло величайшую ценность для любого музея в Бельгии или Нидерландах, так как обе эти страны по праву считали мастера своим достоянием. В Брюгге он родился и сделал первые шаги на поприще резьбы по дереву, после переехал в Антверпен, бывший Меккой всех искусств в начале семнадцатого века. Оттуда его выгодным предложением переманили цеховые старшины Амстердама. То была первая уступка жажде наживы, совершенная гениальным художником, разуверившимся под конец жизни в своем искусстве и погрязшим в сомнительных биржевых сделках. Закончив разборку писем, Александра убедилась, что совершила лучшую в жизни покупку. Никогда прежде ей не случалось приобретать ничего столь же ценного – как в коммерческом, так и в нематериальном плане.
Просматривая оставшиеся на дне коробки бумаги, она отыскала еще один автограф мастера. Это была сугубо деловая записка, нацарапанная наспех, без подписи, но женщина узнала автора по почерку. «Любезная сестрица, – писал тот, – в целях безопасности пересылаю то, о чем я вам уже сообщал, в тайниках, которые находятся с оборота моей греческой волшебницы. Сама Цирцея с ее немалым животом, да семь свиней – вот восемь тайников, достаточных по размеру. Задняя панель сдвигается, стоит только вынуть деревянные втулки, прилаженные вдоль всей рамы. Эти тайники, как и сам сюжет, придумал для меня мой учитель Ян Ван Мильдерт, большой любитель таких штук. Я никогда ими не пользовался, забыл и думать, да вот, подвернулся случай. Надеюсь, вашему семейству не придется попрекать меня тем, что я оставил дочь нищей. Настоятельно прошу вас, сестрица, хранить в тайне переданные вам ценности, так как господа банкиры способны вырвать последний кусок мяса из вашего покорного слуги и не пощадят также мою бедную дочурку, если узнают, что я, будучи банкротом, сумел все же ее обеспечить. Итак, храните тайну, дорогая сестра, и храните мою бедную дочь, вашу крестницу. Остаюсь ваш друг и брат, не теряющий надежды на поправку дел».
Итак, сделала вывод художница, из Амстердама в Брюгге отправились диковинные дары. То была новорожденная слабенькая девочка, для которой путешествие в весеннюю распутицу могло стать роковым, а также громоздкое панно, изображающее Цирцею со свиньями и скрывающее в себе третий, тайный дар. Восемь крупных индийских алмазов редкой красоты и высочайшей стоимости.
Как ни рылась Александра в оставшихся бумагах, как ни ломала голову над тем, выжила ли девочка и какова была ее дальнейшая судьба, об этом не удалось составить даже догадок. Доротея, судя по всему, принявшая на себя материнские обязанности, дневниковых записей не вела, а из ее хозяйственных заметок, крайне непоследовательных, нельзя было сделать выводов, появился в доме ребенок или нет. Архив заканчивался 1637 годом и вновь представлял собой набор деловых писем, поручений и векселей – все больше по-фламандски. Дверь, так внезапно открывшаяся в прошлое, захлопнулась, волшебный свет, лившийся из нее, погас. Голос Каролины, хрупкой и упорной молодой женщины, жестоко обманутой поманившим ее счастьем, навсегда умолк.
И это было бы концом истории, заворожившей Александру, ставшей на короткое время смыслом и центром ее существования, если бы не одна удивительная случайность – счастливая или роковая. Позже, неоднократно вспоминая момент, когда ей открылась правда, женщина пыталась восстановить свои ощущения, но почему-то в памяти возникал только тошнотворный страх, наполнивший душу, как будто она прикоснулась к чему-то смертоносному, таящему угрозу. Конечно, то была немыслимая удача, но почему тогда Александра так испугалась, будто ощутила некую черную тень у себя за спиной, в сумерках мансарды?
Это случилось в середине марта, поздно вечером. Давно наступила оттепель, с крыши капало, в мастерской трудно было дышать от сырости. Женщина сварила себе кофе, открыла для недавно вернувшейся из длительного загула кошки банку консервов и пристроилась с сигаретой на краю рабочего стола. Она рассматривала бельгийский каталог. Ехать в Брюссель Александра уже не собиралась, заказов набрать не удалось. Покойная приятельница как в воду глядела. Перелистывая страницы, испещренные фотографиями, художница с ленивым любопытством разглядывала предложенные лоты, играя про себя в любимую игру: «Что бы я купила, если бы имела кучу денег?»
Получалось, что немногое. Выбор оказался в самом деле удручающе стандартным. В середине каталога, на развороте, была помещена большая черно-белая фотография резного деревянного панно, датированного концом восемнадцатого века. Автор, как у большинства произведений декоративно-прикладного искусства, неизвестен, место нахождения – Брюгге, в частном собрании. «Семь смертных грехов» – Александра прочитала название и принялась рассматривать фотографию. Ее прежде всего привлекло высокое качество исполнения. От женщины, изображенной в центре композиции, невозможно было оторвать взгляд. Ее улыбка, лукавая и задорная, ямочки на круглых от смеха щеках, пышные плечи, массивные бедра и весьма округлый живот – все это было очень по-фламандски, совершенно в духе Рубенса. Свиньи, теснившиеся вокруг красавицы и, судя по названию панно, олицетворявшие собой грехи, также вышли необычайно живо и прямо-таки излучали довольство и жизнелюбие. Аллегория, впрочем, показалась художнице притянутой за уши.
«Семь смертных грехов в картинах такого жанра обычно узнаваемы, а эти свинки безличны. Стадо и стадо. Кто из них зависть, кто чревоугодие, а кто скупость – не разобрать. По идее, чревоугодие должно быть самой толстой свиньей. А скупость – тощей, а они все примерно одинаковой упитанности. Смысл аллегории теряется, до зрителей не доходит. Получается какая-то отвлеченная картина, на свободную тему. Женщина и семь свиней. Это может быть просто сельская сценка. Это может быть…»
И вдруг ее обдало жаром, в ушах тонко зазвенела натянутая до предела, вибрирующая струна. Перед глазами, застилая фотографию, проплыли бисерные строчки из последнего письма Каролины Ван Гуизий. «Дарю своей родственнице Доротее Ван Хейс панно, изображающее греческую богиню Цирцею со стадом пасомых ею свиней…» И тут же к ним подлетели размашистые строки из письма мастера: «Сама Цирцея, с ее немалым животом, да семь свиней – вот восемь тайников, достаточных по размеру…»