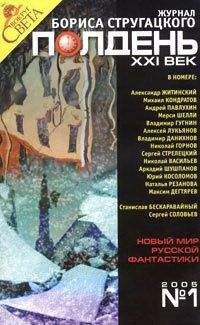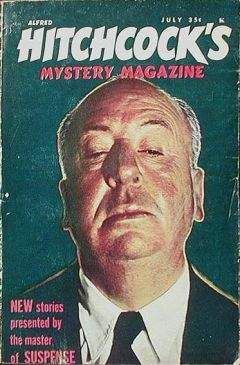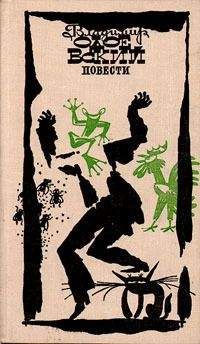Екатерина Лесина - Алмазы Джека Потрошителя
– Не здесь. Не сейчас.
– Но ты сама меня… – Он начал было и осекся, поймав предупреждающий взгляд.
– Я сама тебя сюда позвала. Но наша встреча не должна выглядеть иначе, нежели встреча двух старых знакомых. Почти родственников. Я помогаю тебе, и это хорошо. Это допустимо. А вот иное – нет.
Она говорила, глядя уже не на спутника – на далекое серое окно, за которым плескалась осень. Влажные простыни дождей впитали остатки света, и небо – женщина помнила это – было серым, как когда-то давно, когда ей казалось, что сама ее жизнь сера и уныла и ничего иного в ней не будет.
– Потерпи, солнце мое. – Она повернулась к мужчине. – Уже недолго.
Он слышал эти ее уверения весь последний год и злился на себя, что верит, и не в состоянии был отказаться от веры, от самой надежды быть с нею. И если бы она спросила – а мужчина знал, что его избранница никогда не спросит, – он бы ответил, что все эти игры с деньгами, с положением ничего не значат.
– Уже совсем скоро… вчера ему стало плохо. У нас человека убили. Гадалку. – Она рассказывала, проводя пальцем по поверхности чашки, вырисовывая над нею удивительные узоры, как будто наколдовывая себе будущее. – Помнишь, я рассказывала о ней? Мерзкая особа. Но жаль… заметь, раньше я бы выразилась проще. А теперь вот вежливо… вежливая речь – это тоже признак.
– Чего?
– Положения. Герман думает иначе. Но Герман – неандерталец.
Иногда ему начинало казаться, что эта женщина, умная, хитрая и жестокая – иллюзий он не питал, – обитает в собственном мире. Ее фантазии искажали реальность, а она словно и не замечала.
– А у тебя получится. Только надо подождать.
И все-таки она не удержалась, коснулась его щеки, и это прикосновение значило больше, чем все произнесенные слова.
– Давай уедем, – предложил он, зная ответ. Он получал его десять, двадцать, сто раз, но не смел отказаться от вопроса, движимый безумной надеждой, что вот сейчас, именно сегодня…
– Нет, милый. Мы же говорили. – Она не разозлилась, скорее опечалилась такому упрямству. – Мы не сможем убежать. Он не простит. А если и простит, то… что дальше? Моя квартирка? Существование на зарплату? Подработки по вечерам? Экономия? Штопаные колготки? Я ненавижу штопаные колготки.
Принесли блинчики с клубникой и сливками. Красные ягоды, присыпанные сахарной пудрой, выглядели слишком совершенными, чтобы быть настоящими. Ему не хотелось есть, но она волновалась, что он плохо питается. И сейчас вот смотрела внимательно, следила за тем, как он разрезает чертов блинчик, и морщилась, когда тупой столовый нож скользил по фарфоровому дну тарелки.
– Убийство нам на руку… Нет, мне, конечно, жаль ее, но теперь-то ничего не поделаешь. – Она не испытывала сожаления, более того, воспоминания о женщине, которая пришла в чужой дом, желая распотрошить старые тайны, вызывали лишь злость. – Поэтому надо использовать шанс.
Жизнь когда-то научила ее, что шансы не даются просто так и что держаться за них надо зубами, когтями и приобретенной свирепостью, которая появляется у брошенных собак и отвергнутых женщин.
– Я волнуюсь за тебя. – На его губах осталась пудра, и женщина протянула салфетку.
– Все будет хорошо.
– Нет. Ты так говоришь, потому что… потому что тебе важнее этот дом. Место. Деньги. Что я для тебя? Игрушка!
Он был прав и не прав. Деньги для женщины значили мало сами по себе – она очень боялась привязываться к деньгам. А вот место… положение… роль…
Все играют роли. Главное – выбрать правильную. И заглянув в светлые, такие детские глаза спутника, женщина пообещала:
– Все будет хорошо.
– Герман Васильевич, я настоятельно рекомендовал бы вам госпитализацию, – врач говорил, склонившись над бумагами. Он широко расставил локти, словно опасался, что Гречков прочтет записи – видимо, весьма тайные и потому неразборчивые.
Подобные мысли появлялись в голове Германа Васильевича, чтобы тотчас исчезнуть. Странная пустота, не свойственное прежде равнодушие наполняли все его такое огромное и такое хрупкое тело. Он глядел на бумаги, на доктора, примечая, что и тот нездоров – желтоват, измят, словно пережеван. И белый халат, накрахмаленный и жесткий, сидит на нем криво.
– В больничку… потом как-нибудь.
Прежде Герман Васильевич просто заткнул бы этого нелепого человечка рыком, а то и взглядом. Теперь же вдруг стало неудобно.
– Ты мне выпиши чего-нибудь, – Гречков погладил сердце, которое чувствовал остро, живо. Оно то колотилось, вызывая дурноту, то вдруг затихало. А ночью он проснулся оттого, что сердце молчит. Во всяком случае, именно так ему показалось. И он, напуганный, принялся шлепать себя по груди, пришептывая:
– Давай же…
И сердце зашевелилось. Позже, конечно, Гречков осознал, что все-то ему привиделось. И остановившееся сердце, и страх, и Полинкино пустое место. Не бывало такого, чтоб Полинка уходила. Не ночью.
Не от него.
А доктор, вдруг осмелев, выпрямился и заговорил:
– Герман Васильевич, вы всегда игнорировали мои советы, и, к своему стыду, я с этим мирился. Но сейчас… ваше состояние еще не критично, однако кризис способен наступить в любой момент. Малейшее волнение спровоцирует инфаркт. А в вашем возрасте, в вашем состоянии не так легко будет с ним справиться. Я настаиваю…
– Вчера в моем доме убили человека, – Герман Васильевич вцепился взглядом во взгляд врача.
Вот ведь дело, врач за последние пять годков не менялся, а Гречков не помнил его имени. На двери-то табличка была, и на халате тоже, однако зрение отказывало, и сколько ни пытался Герман Васильевич прочесть написанное – не получалось. Буквы плыли.
А зрение-то у него хорошее. Единица. Была когда-то.
– Убили. Ножом. Кровища… Сколько в человеке крови? Говорят, что четыре литра… по-моему, больше. Всю залу залила. И на меня брызгало. Я не слабонервный, но тут чего-то… нехорошо.
Он снова потер грудь, прислушиваясь к ритму.
– И вот ведь ладно бы, чтоб чужие… свои же. Всех знаю. А выходит, что и не знаю. И как быть-то?
– Оградить себя от стресса, – сказал врач, глядя уже с жалостью. – С убийством пусть полиция разбирается.
– Разберутся, как же… – Герман Васильевич поднялся, опираясь на край стола.
Когда же вышло так, что тело, свое, родное, жилистое, некогда терпеливо сносившее и голод, и холод, и ночные смены на разгрузке-погрузке, вдруг проржавело? И ведь говорили же… доктор, Полинка. Верка опять же, а он не слушал. Все виделось – молодой.
Небо на плечи кинь – выдержат.
– Герман Васильевич, – врач протянул визитную карточку. – С сердцем не шутят. И другого кого отправили бы в больницу насильно.
– Другого и отправляйте.
– Вот. Возьмите, пожалуйста. В любое время. По малейшему поводу. Звоните.
Рецептик он тоже дал, и Герман Васильевич принял его не столько с благодарностью, сколько с надеждой. Вдруг да лекарство это, чье название выведено все тем же нечитабельным почерком, который понимают лишь фармацевты – что это, как ни глобальный заговор? – поможет. Вернет все, как раньше. Жирок с боков растворится, а одряхлевшие мышцы в прежнюю силу войдут. И сердечко застучит в старом ровном ритме.
Конечно, выйдя из поликлиники, Герман Васильевич посмеялся над этой своей внезапной мечтательностью. Прошлого не вернуть. Осталось настоящее. И что в нем? Братец с безумной женушкой. Верка мертвая. Полинка ненужная. И прочие куклы. Власть над куклами есть, а радости – нету.
Почему так?
Герман Васильевич от водителя отмахнулся, велев убираться ко всем чертям. И тот убрался, предоставив начальству свободу.
Гречков шел по городу, гадая, доживет ли до весны. Раз или два появлялось у него желание вернуться, сдаться на милость знакомого-незнакомого врача, но подобные порывы Герман Васильевич душил.
Он очнулся на набережной. Было пусто. Черная река ползла меж бетонных берегов, принимала пенные потоки из старых труб. Стайка коричневых уток клевала заплесневелый батон. И мальчонка в дрянном пальто с чужого плеча глядел на них с завистью. Он был невысоким, тощим и лохматым. Намокшие пряди прилипли к лицу, закрыв и глаза, и брови, и мальчишка только и делал, что пряди убирал.
В руке он сжимал камень.
Герман Васильевич стал за тополем: ему был виден и мальчишка, и утки, увлеченные батоном. Юный охотник подбирался на цыпочках, почти сродняясь с дождем, и у него почти получилось дойти. Он и камень бросил, и попал, вот только плотное птичье оперение оказалось надежным щитом. Утки взлетели, закружились, оглашая окрестности отвратными звуками.
– Не вышло? – поинтересовался Герман Васильевич, покидая укрытие.
– А тебе какое дело, дядя?
– Есть хочешь?
– Да пошел ты… – Паренек отбежал, но недалеко. И утки опустились на землю, заковыляли к размокшему батону.