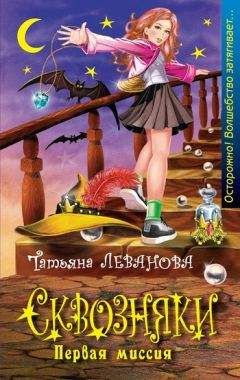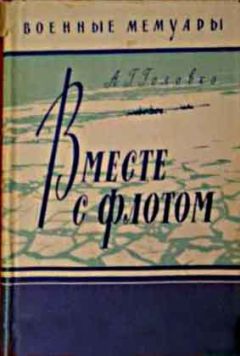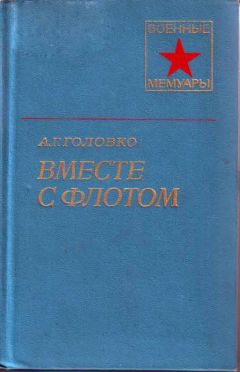Татьяна Устинова - Саквояж со светлым будущим
Плачущая за деревьями Лида, угрозы незнакомца, которым оказался Стас Головко, окровавленный нож в раковине, который затем исчез, и еще какая-то жажда крови, о которой только что говорил своей жене знаменитый актер Андрей Поклонный, и в придачу какие-то три дня сроку, который он получил, и кажется, Лида в кустах тоже говорила что-то о сроках.
Может, у них долги?…
— Дмитрий Андреевич, это Надежда Головко, жена Бориса Головко. С ним должен был встретиться наш Кольцов.
— Какой это ваш?…
Маша промолчала.
— Что они там тебе наговорили?
Видел, поняла Маша. Все видел.
Объясняться или жаловаться ей не хотелось.
Она не могла бы это объяснить, но для него она всегда должна оставаться самой-самой: самой умной, самой приспособленной, самой деловой, самой хваткой. Самый хороший секретарь, самый ловкий водитель, самый незаменимый помощник, и кофе тоже варит лучше всех! Пожаловаться — значит признаться в том, что она слаба. Маша ненавидела, когда он замечал ее слабости или страхи.
Слишком опасно. Слишком горячо.
Не может и не должно быть никаких иллюзий. Он узнает, чего она страшится, о чем жалеет, что не дает ей уснуть в три часа ночи, и использует все это против нее.
Все, что вы скажете, может быть использовано против вас!
Так уже было однажды, и до сих пор оно еще живо, и до сих пор еще ничего не обошлось, и каждый звонок по-прежнему тревога — вдруг это наказание, а вдруг это оно, прошлое, вызывает ее из телефонного аппарата?! Самое ужасное, что из-за ее дурацкой доверчивости в это оказались втянуты дети!… И когда Сильвестр задерживается после шестого урока и ноет, что хочет поиграть с Димкой в волейбол, а Леркин детский сад в полном составе отправляется на утренник в Дом детского творчества, неконтролируемая тревога подло впивается в сознание и сосет, как пиявка, разбухая и заслоняя собой белый свет. А вдруг?… Вдруг именно во время волейбола или утренника случится то, чего ты больше всего боишься и что в какой-то момент тебе не удалось предотвратить?!
Родионов ничего этого не мог знать и спрашивал только «из интереса», и поэтому Маша не стала ему ничего объяснять.
Сильвестр Иевлев маячил за французским окном, зайти не решился и только делал знаки, пытаясь привлечь ее внимание. Он был красный, облизывал губы, одна штанина задрана, а волосы стоят дыбом.
Маша в ответ тоже сделала ему некий знак, который означал «подожди, я сейчас!», и Сильвестр в ответ принялся энергично жестикулировать. Маша ничего не поняла. Она почти не слушала, о чем говорят Родионов и Веселовский, опять про романы, кажется, и про страсть или про ревность, что ли!… В первый раз за годы безупречной службы ей было наплевать на умные разговоры и на явное неудовольствие шефа, который так и не получил книг «на подпись».
Ее беспокоила жестикуляция Сильвестра и то, что он маячит на лужайке без всякого «прикрытия» — никого из Кольцовых не было видно. Ее беспокоил упорный, как будто прилипший к ней взгляд Матвея Ресселя и странное поведение красотки Лиды. Ее отвращение к «секретарше» и «прислуге» казалось чрезмерным, ибо Лида все же не была столбовой дворянкой, а Маша дворовой девушкой, которую застигли в хозяйских покоях, когда она примеряла на себя фамильные бриллианты! Машу беспокоил нож в раковине — не столько он сам, сколько его загадочное исчезновение. Ее беспокоил Андрей Поклонный, который ненавидел свою жену. И Мирослава беспокоила, потому что могла в любую минуту выставить ее из-за стола, или еще как-то унизить, или — еще ужасней! — унизить Сильвестра.
И внезапный приезд Веселовского беспокоил ее, и его невразумительное объяснение, как он тут оказался.
Странно, что больше никто не беспокоился.
С отсутствующим видом она еще постояла возле «своих», а потом стала галсами продвигаться в сторону французских окон, за которыми маячил совершенно изведшийся от ожидания Сильвестр.
— Ты переодел трусы? — спросила Маша, выйдя к детям на лужайку.
Он стрельнул по сторонам сердитыми глазами, не слышал ли кто, а потом воскликнул с возмущением:
— Мама!
— Переодел или нет?
— Да, да, переодел! Мам, а можно мне с Михой в Лавру?
Маша чуть не упала.
— Куда тебе можно?!
Вот, он так и знал! Он так и знал, что мать что-нибудь придумает и скажет, что нельзя! Он даже старался себя подготовить и говорил себе, что еще ничего не решено, и вообще ему навряд ли разрешат, и… и… он ведь обещал матери, что станет помогать ей в работе, но ему так хотелось куда-нибудь поехать с новым приятелем и его родителями! Сильвестр Иевлев толком и не знал, что это за Лавра такая, и представлялся ему Аполлон на крыше Большого театра — наверное, оттого, что тот был в лавровом венке!…
— Мам, — заговорил он, очень убедительно тараща шоколадные глаза, — ну Миха едет в эту самую Лавру, а мне, мне можно?
— Нет, нельзя, — сказала Маша растерянно. — Господи, что ты придумал! Они тебя что, приглашали?!
— Ну конечно! — с досадой на мать, что она думает, будто он собирается без приглашения, ответил Сильвестр и правой кроссовкой почесал левую щиколотку, отчего на некоторое время остался без точки опоры и стал падать. Маша его поддержала. — Они мне сказали, хочешь с нами в Лавру, а я говорю, что маму спрошу, а они говорят, что пожалуйста, спрашивай, а я спрашиваю, это далеко, а они говорят, что в Киеве все близко, потому что это город такой!…
— Ой, боже мой, — сказала Маша, как будто Сильвестра не приглашали в Киево-Печерскую лавру, а забирали в армию.
Какой-то шум за спиной неожиданно отвлек ее от осмысления новой проблемы, и она оглянулась.
Из кустов, сквозь которые она сама давеча проломилась при большом стечении зрителей, выскочила «дивчина» Олеся и понеслась прямо на них с Сильвестром. Следом за ней несся Стас Головко.
— Мам, чего это они, а?…
Маша быстро взяла Сильвестра за руку и задвинула его себе за спину, откуда он моментально выдвинулся и, наоборот, занял позицию впереди матери.
Вообще «дивчина» Стаса была очень похожа на самого Стаса, просто удивительно даже. У нее были длинные волосы с выгоревшими на концах прядями, очень милое личико, сужавшееся к подбородку, гладкая кожа и в пупке бриллиант. Для того чтобы бриллиант был виден, пуговки на блузке кончались задолго до пупка, примерно сразу под грудью. Грудь была аппетитна, но не слишком сдобна, все как следует.
Сейчас волосы у нее развевались по ветру, как у сильфиды, по щекам катились слезы, и казалось, что вот-вот прямо на изумрудной лужайке, под чистым и теплым небом должна случиться ужасная сцена, как в кино — он настигнет ее, станет хватать за плечи, а она будет вырываться, хрипеть и закатывать глаза.
Кошмар на улице Вязов.
— Леся!
Она остановилась в двух шагах от Маши с Сильвестром и прижала к щекам кулаки.
— Не подходи ко мне, — сказала она очень тихо. — Не смей ко мне подходить.
Стас Головко послушно остановился.
— Мам, пойдем отсюда, — быстро проговорил Сильвестр.
— И больше никогда не смей разговаривать со мной, — продолжала «дивчина» все так же тихо. — Я сейчас же уеду.
— Ты не посмеешь.
Она отняла руки от щек и спросила, словно плюнула ему в лицо:
— Я не посмею?!
— Ты не можешь сейчас уехать, Леся!
— Я не могу?! После… после всего, что ты… сделал?!
— Леся!
— Мам, пойдем отсюда, а?
— И кто меня остановит?! Ты сам?! Или отдашь меня папочкиным псам?!
Стас сделал движение, и Леся отступила. Машу и ее сына она как будто не замечала.
Сильвестру все это страшно не нравилось. Он вообще не любил скандалов и криков и терпеть не мог, когда рядом орали и выясняли отношения. Еще он терпеть не мог, когда мать сердилась или — хуже того! — начинала на него ругаться. Он пугался и не знал, как жить дальше. От крика у него будто отшибало разум, и все мысли исчезали, кроме одной — убежать. Как можно быстрее и как можно дальше.
Стас сделал еще шаг и улыбнулся Маше и Сильвестру.
— Мы поссорились, — зачем-то сказал он. — Прощения просим!
— Поссорились?! — переспросила сильфида. — Мы поссорились?!
И она захохотала и затрясла головой, и кулаки у нее тоже затряслись, и Стас прыгнул, с силой обнял ее за плечи и повел прочь. Она вырывалась, брыкалась, но он ее не отпускал, и Леся перестала брыкаться и пошла, а Сильвестр с Машей смотрели им вслед.
— Чего они ругаются? — под нос себе сказал Сильвестр. — Вырасту, ни на кого не буду ругаться! Ни за что, никогда!
— Никогда не говори никогда, — произнес рядом Родионов. — Всегда говори всегда.
Маша с изумлением оглянулась.
Он подошел к ним и усмехнулся:
— Из-за чего такие страсти? Кто-нибудь вник?
Оказалось, что никто не вник.
— Ну что же так, — пожурил Родионов. — Нехорошо. Страсти кипят, а мы не в курсе дела.
— По-моему, он ее бросил, — проявил Сильвестр чудеса проницательности. — У нас в классе так часто бывает.