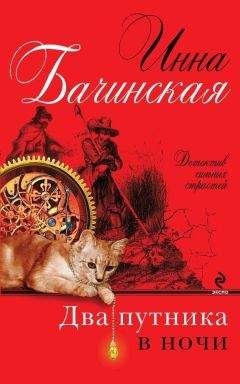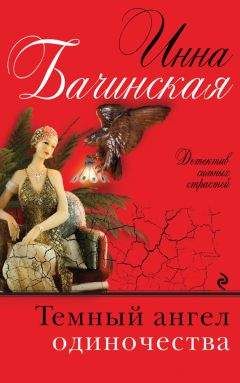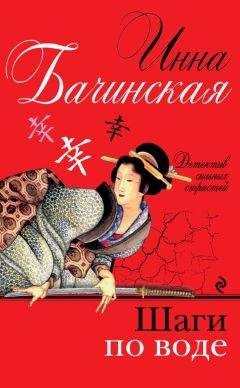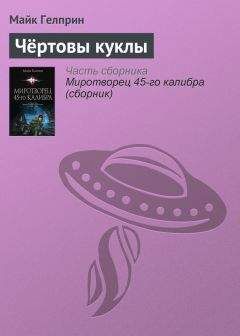Виктор Пронин - Ледяной ветер азарта
Анатолий Евгеньевич снимал комнату у Верховцевых, тех самых, сын которых, Юрка, несколько дней назад удрал из отделения милиции вместе с Горецким. Теперь он сидел дома, залечивал обмороженные конечности и молчал, злился, как волчонок, попавший в капкан. Отец виноватил самого Юрку, участкового, которому пришла в голову блажь запереть парня на ночь в отделении, мать все валила на отца, на строительное начальство, а сын время от времени покрикивал на обоих, поскольку всю вину мужественно брал на себя.
Прислушиваясь к движению за стеной, звяканью посуды, грохоту принесенных с улицы дров, Анатолий Евгеньевич готовился проскочить через общую комнату, не привлекая внимания и не вмешиваясь в семейные передряги. Но стоило ему приоткрыть дверь, как отец, даже не успев захлопнуть дверцу печи, распрямился и, повернувшись к Юрке, крикнул:
– Вот! Спроси человека! Ты спроси, если отцу родному не веришь! Скажи ему, Евгеньич!
– Отец прав, – скорбно и значительно ответил Анатолий Евгеньевич. – Ты, Юра, напрасно так. Нельзя. Надо...
– Да вы послушайте, что он говорит!
– Но он отец, Юра, – Анатолий Евгеньевич вложил в эти слова столько печали, мудрости и беспокойства за парня, что тот присмирел. – Вот то-то! А за батиной спиной все мы герои!
Отец сердито шевелил нечесаными усами, с силой бросал в печь мерзлые поленья, так, что где-то там, в огненной глубине, они глухо ударялись о кирпичи, напористо шагал по комнате, норовя пройти так, чтобы наткнуться на кого-нибудь – на Юрку, на мать, на Анатолия Евгеньевича, и они шарахались в стороны, уступали дорогу, но отец снова пер на них, и они снова увертывались.
– Следователь в поселок приехал из-за тебя, дурака! Ишь министр какой! Ишь фигура! Это как? Как, спрашиваю, понимать?
– Коли б порядок был в Поселке, то ничего б и не случилось, – сказала мать убежденно. Отец круто, всем корпусом повернулся на ее голос, но не успел ничего сказать. – Порядка потому что нет, – повторила мать. – А коли б он был, порядок-то, то, слава богу, и жили бы спокойно. Такое мое слово. А то моду взяли – мальчишек под замок сажать! Это и зверя какого посади, он тоже удрать изловчится.
– А кто его, дурака, заставлял камни в окно бросать? Отец заставил? Может, мать упросила? Это же надо! – Старик воздел руки вверх, как бы призывая в судьи высшие силы. – Ведь как всегда было... Полюбил парень девку, чего не бывает... Так он ей цветы, он ей колечко подарит, платок какой, песню, на худой конец, споет, спляшет косо-криво... А этот – камни в окно. Чтоб, значит, она не забывала его, память чтоб о нем имела, любовь его жаркую оценить могла! А! Евгеньич, ты слышал, чтоб люди про любовь камнями разговаривали?
– Да какая любовь, какая любовь! Чего мелешь-то! – простонал Юрка.
– Юра, – с чувством произнес Анатолий Евгеньевич. – Понимаешь, Юра, надо как-то соразмерять свои поступки и слова, слова и желания, желания и возможности... Надо, Юра, жить так, чтобы на тебя не показывали пальцем, – скорбно закончил Анатолий Евгеньевич и поспешил выйти, прихватив с полки в сенях сверток.
На крыльце он постоял с минуту, будто в раздумье, и направился в магазин. Ему не повезло – там уже торчал Горецкий. С перебинтованной головой, пластырем на подбородке, с костылем – не залечил еще раны после ночного побега. Вообще-то его положено было держать под стражей, но надобности в этом не видели. И Горецкий шатался по Поселку, заглядывал в мастерские, часами околачивался в магазине, неизвестно о чем толкуя с продавщицей. Вера, женщина молодая, здоровая, нравилась Анатолию Евгеньевичу, и, заставая здесь Горецкого, он каждый раз чувствовал, как его охватывает злая ревность. У Анатолия Евгеньевича не хватило духу потребовать у Веры внимания к себе, но он страдал, когда Вера игриво, поощряюще перешучивалась с кем-то, – Кныш полагал, что у него несчастная любовь. И сейчас, увидев Горецкого, он сник и отошел к витрине с конфетами.
– Что, папаша, сладкого захотелось? – Горецкий захохотал и подмигнул Вере.
И Анатолий Евгеньевич с болезненной четкостью увидел ее смеющиеся глаза, яркие губы, ее здоровье, остро и ревниво почувствовал, что она женщина. И улыбнулся, как мальчишка, пойманный на запретном, жалко и виновато. Вера даже смутилась, будто невзначай ударила человека в больное место.
– Витя, – сказала она негромко, – ты зайди позже, ладно? Мне с Анатолием Евгеньевичем поговорить надо.
– Родственные сферы? – засмеялся Горецкий. – Взаимовыгодные контакты? А может, того... преступный сговор? Признавайся, папаша!
– Да, – спокойно сказала Вера. – Самый что ни есть сговор.
Анатолий Евгеньевич поразился происшедшей перемене. Теперь за прилавком стояла не глуповато похохатывающая бабенка, нет, он увидел холодную, властную и недоступную женщину. И Горецкий оробел, засуетился, начал шарить по карманам, разыскивая перчатки.
– Я что, – говорил он, – я ведь ничего. Могу и попозже. Мы народ простой, исполнительный. Нам сказано, мы – сделано. Вот только покупочку бы сделать за-ради плана родного магазина, за-ради уважения к близкому человеку...
– Перебьешься, – обронила Вера.
– А думаешь, нет? И перебьюсь. Так я через часок, а?
Вера молча кивнула, но неохотно, словно бы что-то переборов в себе.
– Приятных вам разговоров! – засмеялся Горецкий уже у выхода и быстро захлопнул за собой дверь, словно боялся, что в него могут запустить чем-то.
– Мразь! – резко сказал Анатолий Евгеньевич и тут же похолодел, поняв, что погорячился, что не имеет права так говорить, не дала еще ему Вера таких прав.
– Он не мразь, – спокойно проговорила Вера, опускаясь на табуретку. – Просто слабак.
– Но красивый слабак, а?
– Смазливый.
– Какая разница? Как различишь – где смазливый, где красивый? Полюбишь – назовешь красивым, разлюбишь – в смазливые разжалуешь.
– Красивый – посильнее. И неважно – правильный у него нос или нет, хорошо видят глаза или слепокурые... А смазливые – слабаки, хотя у них и все на месте, и все как надо. Вот и разница.
– Вообще-то да, – согласился Анатолий Евгеньевич, уловив скрытую похвалу, и невольно распрямил спину. – Вообще-то да, – благодарно повторил он. – Я вот кое-что принес, – он вынул из-за пазухи сверток; Вера, даже не взглянув, тут же убрала его под прилавок. – Это масло, – пояснил Анатолий Евгеньевич.
– Сколько?
– Полтора. Чуть больше. Не надо, – сказал Анатолий Евгеньевич, услышав, как Вера зашелестела бумажками в ящике. – Лучше того... Бутылочку.
– Водку? Что с вами, Анатолий Евгеньевич?
– Не знаю, Вера. Душа просит.
– С каких это пор вы о душе стали думать?
– Когда-то надо и о ней подумать, Вера, – печально сказал Анатолий Евгеньевич.
Оба чаще обычного называли друг друга по имени, и было в этом нечто вроде договоренности относиться друг к другу с пониманием и доверием. И было согласие пойти дальше, столковаться о большем. Кныш неожиданно заволновался. Он еще не сказал ничего такого, что заставило бы его оробеть, даже не подумал ни о чем таком, но где-то в нем уже рождалось решение и всплывали, всплывали, как пузыри со дна, слова, очень важные для него, рисковые, отчаянные. Лицо его дрогнуло, он обеспокоенно оглянулся по сторонам, словно в поисках поддержки.
– Что с вами, Анатолий Евгеньевич? – спросила Вера с нарочитым беспокойством.
– Я вот подумал, Вера... Почему бы нам, собственно, не посидеть за этой бутылочкой вместе? А?
– Знаете, Анатолий Евгеньевич, даже не знаю, что вам ответить... Вы так неожиданно...
– Отвечайте «да»! Такое простое и короткое слово, – улыбнулся Анатолий Евгеньевич. – Ну, пожалуйста, отвечайте «да»! Вы и не заметите, как произнесете его. Ну что вам стоит? – Анатолию Евгеньевичу очень хотелось настоять на своем. Вчера он получил удар от Панюшкина, и пропустить еще удар было бы для него слишком тяжело.
– Да при чем тут стоимость!
– Вера, Вера! Если бы вы знали, как мне повезло, что в этой дыре я встретил... да, встретил вас! Знаете, когда годы живешь в одиночку, когда только с самим собой и можешь поговорить откровенно, да и то не всегда... Я так хочу, чтобы у нас с вами все было хорошо!
– По-моему, и так все хорошо, – ухватилась Вера за самые безобидные слова Анатолия Евгеньевича. – И макароны пошли, и с маслом порядок.
– Да не о том я! – с досадой отвернулся бывший директор столовой. – Не о масле! Не о макаронах!
– О чем же тогда, Анатолий Евгеньевич? – простодушно спросила Вера. – У вас есть еще что-то?
– Душа у меня есть, – грустно ответил Кныш.
– Сколько же вы за нее хотите?
– Мне не до шуток, Вера. И я не думал, что это станет для вас предметом шуток. – Анатолий Евгеньевич обиженно взял с прилавка холодную бутылку со смятой, надорванной этикеткой и опустил ее в карман штанов.
– Ну, Анатолий Евгеньевич... Я совсем не хотела вас обидеть... Я не поняла, о чем идет речь. Вы говорили так неопределенно... Я подумала, будто вы опять хотели предложить продать что-нибудь.